понедельник, 14 апреля 2025
Я всегда был склонен отождествлять Божественную волю со случайностью и, таким образом, верил, что всё, происходящее в мире, происходит случайно (поскольку оно происходит по воле Божией). С большой радостью я узнал от П. П. Гайденко [Гайденко П. П. Волюнтативная метафизика и новоевропейская культура // В.В. Иванов (ред.). Три подхода к изучению культуры. М.: МГУ, 1997, стр. 5 – 74; Гайденко П. П. Средневековый номинализм и генезис новоевропейского сознания // Христианство и наука. Сб. докл. конференции (28 января 1999 года). М., 2000, стр. 36 – 51], что подобного рода представления лежали в основе естествознания, зарождавшегося в недрах схоластики на рубеже XIII и XIV вв., ибо благодаря этому мои взгляды на естествознание вообще и на его связь с христианством в частности складывались в цельную, стройную, логически непротиворечивую систему. Однако в дальнейшем я с удивлением вычитал у А. Пикока [Пикок А. Богословие в век науки. Модели бытия и становления в богословии и науке (пер. с англ.). М.: ББИ, 2004, 413 стр.] (которого считал своим единомышленником) следующую фразу: «Утверждалось, что иудео-христианская среда западного христианства благодаря убеждению в том, что природа имеет случайный характер, оказалась благоприятной средой, чтобы не сказать большего, для расцвета современной науки – хотя прямую причинную обусловленность и не легко установить и, вероятнее всего, трудно доказать. См. работу Р. Грунера «Science, Nature and Christianity». Journal of Theological Studies, 26 (1975), стр. 55 – 81, где можно найти критический отзыв на эту широко распространенную точку зрения о предполагаемой причинно-исторической зависимости» (op. cit., стр. 17). Разумеется, мне захотелось познакомиться с работой Р. Грунера, на которую ссылается Пикок, но тогда (в первых годах XXI в.) в России получить доступ к статье, опубликованной в “Journal of Theological Studies”, было фактически невозможно. Мне удалось это лишь в прошлом году через портал Sci-Hub (отдельная и огромная благодарность Александре Элбакян). Естественно, я внимательно изучил эту статью (сразу замечу, что в ней вообще ничего не говорится о случайности), перевёл её на русский язык и написал на неё рецензию. Вряд ли эту рецензию удастся где-нибудь опубликовать. Поэтому помещаю здесь сначала мой перевод статьи Грунера (чтобы было понятно, о чём речь), а саму рецензию помещу следом.
Рольф Грунер
НАУКА, ПРИРОДА И ХРИСТИАНСТВО
(Gruner R. Science, nature, and Christianity // Journal of Theological Studies, N. S., 1975, Vol. XXVI, pp. 55 – 81)
С восемнадцатого века многие люди стали представлять себе исторические взаимоотношения между наукой, с одной стороны, и религией, представленной христианской теологией, с другой стороны, как конфликтные. Они считали, что современной науке, особенно на ранних стадиях, пришлось выступать против сильной религиозной оппозиции (случай с Галилеем – яркий тому пример), и они находили это совсем не удивительным благодаря своему убеждению, что рождение науки стало частью великого возрождения сладости и света классических времён, их рациональности и интереса к миру природы. Вражду ориентированной на потустороннее и авторитарной религии с её мрачной озабоченностью грехом и смертью, презрением и отрицанием всего естественного, тогда можно было воспринимать как нечто само собой разумеющееся.
Сегодня мало кто со знанием дела согласится с таким мнением. Изучение истории, истории идей и истории науки не стояло на месте, и теперь кажется, что всё обстоит гораздо сложнее, чем предполагалось ранее. Одна из попыток прийти к новой, лучшей картине отношений между христианством и наукой {1} представляет особый интерес, поскольку в некотором отношении она прямо противоположна традиционному подходу. Ибо в этом случае утверждается что наука на самом деле совсем не находится в какой-либо оппозиции к христианской вере, а является её следствием или результатом, тогда как представления, преобладавшие в классической античности, были помехой, препятствием, которое нужно было преодолеть, прежде чем наука могла появиться в том виде, как мы её знаем.
Сторонники этой точки зрения (которые имели предшественников в девятнадцатом веке, и которых, за неимением лучшего названия, я буду называть «ревизионистами») очень часто, по-видимому, имеют апологетические намерения. Совсем не стремясь вытеснить и чем-то заменить религию как всеобъемлющую точку зрения и интерпретацию мира, они хотят сказать, что наука в своем возникновении сама находилась в зависимости от одной конкретной религии, и если она хочет выжить, и приносить пользу в дальнейшем, эту зависимость необходимо признать и подтвердить. Ибо это не просто вопрос прошлого. Поскольку ревизионист разделяет с большинством своих оппонентов-агностиков положительную оценку науки, он считает очень большой заслугой христианства то, что оно сделало возможной такую вещь, как наука.
Однако для апологетических целей в такой позиции есть опасности, и поскольку репутация науки в последнее время несколько запятналась, многие богословы, возможно, сочтут для будущего повышения престижа своей религии более перспективным утверждать, что она требует уважения человека к его так называемой окружающей среде, а не манипулирования и контроля над ней. Я, однако, говорю здесь не об апологетическом аспекте вопроса, а о том, имеет ли он какие-либо достоинства как историко-философский тезис. Поэтому необходимо рассмотреть его более подробно {2}.
I.
Почему современная наука рассматривается здесь как «дитя христианской веры» (по словам одного автора) {3}? Аргументация начинается с тезиса о классическом взгляде на Бога и природу. Для греков природа (или мир) была вечной и несотворённой, не имеющей ни начала, ни конца во времени. Боги народной религии были олицетворением сил природы, тогда как Бог философов был либо генератором, либо изобретателем. Как генератор он породил мир, как природный отец; как изобретатель он создал его, как ремесленник. В любом случае он зависит от ранее существовавшей материи и формы и не творил в иудейско-христианском смысле, то есть ex nihilo. Короче говоря, он не автономен, а зависим, и то, от чего он зависит, в конечном счете, – это судьба или необходимость.
У этих концепций есть несколько следствий, и два из них особенно важны. Во-первых, согласно греческим предположениям, нельзя было провести резкое различие между Богом и природой. Другими словами, сама природа рассматривалась как имеющая характер божественного, что также означает, что она рассматривалась как одушевленная и имеющая свои части, наделенные разумом и волей, что видно, например, из взглядов греков на небесные тела. Другим важным следствием является вера в то, что истинное знание о природе и мире может быть получено, причём только путем рассмотрения принципов, согласно которым природа была сформирована Божеством или божествами. Это проявляется, в частности, в аристотелевском различении сущности и акциденции, поскольку сущность вещи может быть познана через её определение, т. е. в процессе чистого размышления, тогда как акциденции действительно случайны («акцидентальны») и поэтому не имеют значения, поскольку познание направлено исключительно на то, что необходимо и неслучайно.
Всё это означает, что греки не могли разработать что-либо похожее на современную науку. Если природа божественна, то заниматься предприятием, которое предполагает манипулирование природой и контроль над ней, является высокомерием; и если всё, что стóит познать, можно познать посредством размышления, то нет смысла заниматься каким-либо эмпирическим исследованием. Или, скорее, если и есть какой-то смысл, то он состоит лишь в предоставлении примеров общих принципов, которые сами по себе открываются другими способами. Короче говоря, опыт не используется и не может быть использован для вывода таких принципов, для формулирования научных законов и теорий, а также для объяснения и предсказания отдельных эмпирических фактов.
Но все эти препятствия были устранены новой религией христианства, то есть именно эта религия создала предпосылки современной науки. Стержнем является иудейско-христианская концепция Бога как личного, всемогущего Существа, сотворившего мир из ничего. Это означает, что мир или природа не могут быть вечными, но должны иметь историю. Ибо только Бог не имеет ни начала, ни конца. Это также означает, что Бог и мир полностью и абсолютно отличны друг от друга. Следовательно, Бог не может быть естественным отцом мира, а мир — организмом, ибо в этом случае оба были бы одного и того же рода. И разница между Богом и миром не может напоминать разницу между ремесленником и его продуктом, артефактом. Ибо ремесленник лишь придаёт форму уже существующему материалу, применяя определенные законы и принципы, действительность которых также от него не зависит, тогда как в случае божественного творения отсутствует всё предшествующее существование и все независимые принципы, короче говоря, всё, что могло бы посягать на Его абсолютную власть и автономию. То, что мир такой, какой он есть, обусловлено исключительно Его свободной волей (и поскольку Бог является личным Существом, а не анонимной силой, термин «воля» здесь вполне уместен). Он мог бы создать мир по-другому; он мог вообще его не создавать. Для чего он создал это и почему создал именно так, мы не знаем и не можем знать. Поэтому тщетно искать конечные причины в природе. Для нас может быть только одна конечная причина – это Сам Бог. Другие причины, которые мы можем знать, — это только действующие причины, и поскольку в неживой природе они носят механический характер, механистический взгляд классической физики находился в совершенном согласии с христианской верой, более того, был даже её логическим следствием, в то время как любой взгляд на природа как организм несовместим с этой верой.
Волюнтаристская концепция христианского Бога влечет за собой, конечно, и применение эмпирических методов исследования природы. Не существует плана творения, который можно было бы обнаружить в свете разума; единственный способ узнать, что и как существует в мире, — это наблюдение и эксперимент. Вопреки распространенному мнению, христианская вера не ставит никаких препятствий на пути подобных исследований. Напротив, они не только разрешены, но и решительно требуются от верующего, как можно видеть из таких мест Писания, как Еккл 1:13, где сказано, что Бог дал человеку задачу «исследовать и испытать мудростью всё, что делается под небом». Греки — в частности, Платон и неоплатоники — впали в дуализм, согласно которому материя по своей сути плоха (это было причиной, например, того, почему демиург не мог полностью и совершенно воспроизвести идеальную модель в эмпирическом мире). Однако, по христианскому воззрению, материя, природа, мир хороши, потому что благ их Создатель. Мир, созданный добрым Богом, не может быть злым, и если Бог воплотился Сам, то плоть не может быть по своей сути плохой. Уже по этой причине обращение к Богу влечет за собой обращение к Его творению. Следовательно, интерес к миру, любопытство к нему и стремление познать его становятся религиозными обязанностями. Они сводятся к прославлению Бога в Его творениях и признанию явлений природы символами духовной благодати. Занятия наукой приобретают характер поклонения Богу.
Но озабоченность знанием природы требуется христианской верой также и в силу требования милосердия. Поскольку, согласно Быт 1:26–27, человеку дана власть над остальным творением, он имеет право осуществлять эту власть. А поскольку занятия наукой являются наиболее эффективным средством принести пользу ближнему (путем уменьшения страданий и улучшения его положения на земле в целом), у человека есть долг перед наукой, потому что у него есть долг к благотворительности. Таким образом, пáрные элементы теории и практики в научном познании, основаны на религиозной заповеди, согласно которой это познание в соответствии с известной формулой Бэкона {4} должно быть посвящено «славе Творца и облегчению бремени человека».
Отсюда следует лёгкий переход к следующему пункту: добродетели, необходимые для успешного достижения научного познания, являются христианскими добродетелями. Само собой разумеется, что человек науки должен быть смелым, терпеливым, настойчивым, владеющим собой и обладающим чувством призвания. Столь же очевидно, что он должен уважать истину и ставить интеллектуальную честность выше собственных интересов. Но поскольку наука служит человечеству и поскольку она сама является предприятием исключительно социального и кооперативного характера, требующим свободы выражения и обмена идеями, необходимо также уважение к личности, особенно в той мере, в какой оно выражается в терпимости, чувстве братства и любви к свободе. И последнее, но не менее важное: христианская добродетель смирения, которая здесь принимает форму добровольного уважения к эмпирическим фактам и признания того, что ни один результат не является окончательным. Здесь особенно очевидна разница между ученым-исследователем и типичным мыслителем древней Греции. Ибо последний был человеком, который считал свой ум достаточно мощным, чтобы приобретать знания без смиренного подчинения деталям реальности, знания, которые он считал законченными и окончательными, не способными и не нуждающимися в дальнейшем совершенствовании. Этот последний пункт имеет особое значение, поскольку он показывает, насколько современный взгляд на науку как на вечный прогрессивный поиск связан с христианской идеей о том, что полная модель христианской жизни невозможна, потому что дух деятельной любви безграничен и Бог возложил на человека нравственное совершенствование как бесконечную задачу.
Наконец (и на этом я закончу данный обзор ревизионистской концепции) очевидно, что никакая наука не была бы возможна без предположений о том, что в природе существуют порядок и регулярность и что человеческий разум способен их распознавать. Но эти предположения связаны с религиозными идеями. Действительно, существование порядка логически не влечёт за собой существование Бога — аргумент о замысле недействителен. Но вера в порядок не имеет особого смысла, если на предшествующих и независимых основаниях человек не верит также в разумное Божество, создавшее этот порядок. Хотя было бы преувеличением сказать, что приверженность христианской вере является необходимой предпосылкой для занятий наукой, нет никаких сомнений в том, что такая приверженность даёт огромный стимул и воодушевление, о чём также свидетельствует большая религиозность почти всех основателей и пионеров современной науки. И то, что справедливо для веры в порядок, mutatis mutandis (с соответствующими изменениями) справедливо и для веры в способность человека познать его.
II
Очевидно, что защитник взглядов, подобных тем, которые я здесь изложил, немедленно сталкивается с двумя трудностями. Первая может быть обозначена вопросом: почему, если христианство было столь благоприятным для возникновения науки, потребовалось так много времени, прежде чем наука фактически возникла? Ответ на этот вопрос, по сути, заключается в том, что на протяжении столетий эта религия была испорчена языческими элементами. Платоническое/неоплатоническое влияние было ответственно за недоверие к телу и потусторонний характер веры в целом – черту, которая препятствовала изучению природы и находится в противоречии с первоначальным христианством. А аристотелизм Средневековья представлял собой дальнейшее извращение, потому что он был попыткой придать этой религии чуждую и неприемлемую философскую форму, особенно в отношении конечных причин и телеологических объяснений, которые, по сути, вновь ввели что-то вроде греческого взгляда на природу как на одушевленную и божественную. На самом деле только протестантизм, и особенно пуританство, очистили христианскую веру от языческих элементов и тем самым устранили препятствия, которые стояли на пути науки. (В этом месте можно вспомнить, что большинство ревизионистов сами являются протестантами.)
Вторая трудность, которую необходимо преодолеть, заключается в том, что современная наука, начиная с восемнадцатого века, если не раньше, не следовала религиозным линиям и не развивалась в том духе, в котором, по мнению ревизиониста, она должна была развиваться. Независимо от того, придерживается ли кто-либо или не придерживается мнения, что наука несёт большую ответственность за устойчивый процесс секуляризации и устойчивое уменьшение роли религии в жизни современного человека, не может быть сомнений в том, что она использовалась агностиками и атеистами как очень мощная и эффективная палка, которой можно было бить религиозную веру. Даже если кто-то хочет говорить здесь о гигантском непонимании либо науки, либо религии, либо и того, и другого, всё равно нужно объяснить, как оно могло возникнуть и так широко распространиться. Поэтому ревизионисты должны в той или иной форме сказать, что где-то что-то пошло не так, но что это развитие не было необходимым, то есть не было ни присущим современной науке с самого начала, ни одним из ее логических результатов. Они разнятся, однако, во взглядах на то, что именно пошло не так и когда. В то время как некоторые {5} указывают обвиняющим перстом на относительно позднюю идею о том, что человек также может и должен стать объектом науки, для других {6} решающее событие произошло несколько раньше, когда применение детерминистской гипотезы было распространено с неживой природы (где она уместна) на живую природу (где она неуместна). И по крайней мере один автор {7} находит проблему в дихотомиях, которые возникли уже в самые ранние дни современной науки, таких как дуализм веры и разума у Бэкона, первичных и вторичных качеств у Галилея, ментальных и материальных субстанций у Декарта, – все эти взгляды считаются разрушительными для высокой концепции науки как божественного поклонения.
Теперь должно быть совершенно ясно, почему необходимы такие рассуждения, то есть, почему ревизионист должен отрицать, что безразличие (если не враждебность) к религии, проявленное или поощряемое современной наукой в её более поздних фазах, было неизбежным. Если есть прямой путь, естественная связь между христианской верой и наукой и между наукой и нерелигиозным отношением и образом жизни, то эта вера несла в себе с самого начала семена своего собственного разрушения. И этого ни один истинный христианин не может признать. Поэтому для него либо нет такой связи между его религией и наукой, либо развитие науки в сторону религиозного безразличия не было неизбежным. Поскольку это всего лишь тезис ревизиониста о том, что существует внутренняя связь между христианством и наукой, он должен выбрать второй вариант, и это равносильно отрицанию того, что, учитывая прогресс науки за последние триста лет или около того, сопутствующий процесс секуляризации был автоматическим. Короче говоря, ревизионист должен верить, что можно иметь цивилизацию, которая одновременно является и интенсивно научной, и интенсивно религиозной.
В конце концов, однако, ревизионизм, возможно, лучше всего рассматривать как часть более общего стремления, которое было главной заботой теологов на протяжении по крайней мере столетия, стремления показать, что нет и не может быть никакого реального противоречия, несовместимости или несоответствия между наукой, с одной стороны, и религией, с другой, – взгляда, к которому ревизионист просто добавляет свой тезис о том, что, напротив, христианская вера даже благоприятствует науке и фактически была ее главным прародителем. Все те, кто сделал агностические или атеистические выводы из научного знания, таким образом, обвиняются в ошибке; вся философия или Weltanschauung (мировоззрение) натурализма считается основанной на недостаточном знании или ошибочном рассуждении.
III
Ревизионистская концепция несостоятельна, и некоторые обоснования этого будут приведены ниже. Несомненно, основные факты не оспариваются: древние не развивали науку в современном смысле, в то время как после полутора тысяч лет христианства эта наука действительно появилась. Предполагая, что мы можем исключить внешние (например, восточные) влияния, следует, что в этом интервале времени должно было быть произведено что-то, чего раньше не хватало. Но сказать это — значит сказать очень мало, и ревизионистский тезис, конечно, идет гораздо дальше. Поэтому его нельзя обвинить в тривиальности.
Однако я не предполагаю подвергать его систематической критике по пунктам. Здесь это невозможно, а во многих случаях и не нужно, потому что слабости слишком бросаются в глаза. Например, совершенно очевидно, что добродетели, перечисленные как необходимые для занятия наукой, не являются ни специфически христианскими по характеру, ни специфически отноящимися к человеку науки. Для того чтобы успешно заниматься научными исследованиями, нет необходимости в особой любви к человечеству или вере в братство людей; а что касается смиренного покорения опыту, то оно необходимо каждому: если труба, после того как её починили, всё ещё течёт, она течёт; и это факт, который даже водопроводчик должен признать, если он хочет остаться в бизнесе. Идея о том, что современная наука способствует таким вещам, как разумность и терпимость, а также социальным или политическим институтам, которые якобы основаны на них, разделяется многими теистами, атеистами и агностиками, и религия не имеет к этому особого отношения.
Но вникать в пункты такого рода также малопродуктивно, потому что они не являются существенными для ревизионистской концепции: их можно допустить, не допуская самого тезиса. Критика должна касаться более обширных областей, и в частности тех, которые имеют отношение к характеру греческой мысли, христианской религии и современной науки соответственно. В каждом случае мы должны спросить, является ли картина, которая нам здесь представлена, достаточно справедливой и правдивой, и действительно ли отношения между тремя феноменами носят предполагаемый характер.
Теперь, самая поразительная черта при рассмотрении ревизионистского тезиса в целом – это идея христианства, которая здесь подразумевается. Ибо утверждается ни более, ни менее как то, что в течение первых полутора тысяч лет своего существования эта религия была извращена язычеством: в самом начале она была в чистом и первозданном состоянии, но почти сразу же она попала под чуждое влияние и началось искажение и разложение. Возможно, это не более чем современная версия традиционной защиты протестантской Реформации как возвращения к истокам и истинному духу, каким он был в ранние времена. Это поднимает вопрос о том, как решить, что составляет этот изначальный дух, и протестантский ответ всегда заключался в том, что данное решение должно быть основано на тексте Библии, – ответ, который имеет смысл только при условии, что этот текст говорит одним голосом и что из него можно извлечь истинное и недвусмысленное понимание.
Справедливость этого предположения должна оставаться проблематичной, но даже если бы его можно было считать доказанным, не подлежит сомнению, что в ревизионистской концепции это понимание очень курьёзно. Ибо эта концепция может строиться только при игнорировании по крайней мере одного из великих христианских догматов — догмата о грехопадении и первородном грехе. Даже если правда, что хороший Бог может создать только хороший мир (и в Быт 1:31–33 мы действительно можем прочитать, что Бог увидел, что созданное им хорошо), то есть ещё другой вопрос: оставалось ли хорошим то, что было создано хорошим? И согласно христианскому учению это было не так. Является ли это, в конце концов, последовательной позицией — считать понятным зарождение зла в добром мире, созданном добрым Богом, – нас может не касаться. (Не обязательно также рассматривать вопрос, обязан ли тот, кто аргументирует от хорошего Бога к хорошему миру, аргументировать от бесконечно хорошего Бога к бесконечно хорошему миру.) Факт остаётся фактом: согласно этой религии зло действительно возникло и с тех пор пребывает с нами. А это означает, что после грехопадения мир больше не был «хорошим миром». Сказать, что вера в испорченный характер мира сама является искажением христианства, – это в конечном итоге всё равно, что признать искажением учение о грехопадении, а это нелепо, особенно если Платона и неоплатоников порицают за центральную догму Ветхого Завета {8}.
Видение мира падшим имеет следствия для значения, которое придаётся мирским реалиям, а значит, и познанию этих реалий, и, следовательно, познанию природы. Вероятно, это не влечёт за собой радикального contemptus mundi (презрение к миру) и крайней враждебности к этому знанию, выражения которой мы находим у столь многих христианских мыслителей прошлого (а цитаты из ранних отцов через Августина до Лютера здесь легко приходят на ум) {9}. Но это реально означает, что оно не может иметь очень высокий рейтинг на шкале вещей, которые важны для верующего. Для него, выражаясь словами доктора Джонсона, «познание внешней природы и науки, которых это познание требует или включает в себя, не являются великим или частым делом человеческого разума», и человек помещён здесь не для того, чтобы «наблюдать за ростом растений или за движением звёзд» {10}. Ревизионисты пытаются подкрепить свой тезис цитатами из Священного Писания, но это мало эффективно, потому что для каждого отрывка, где познание природы кажется разрешённым или требуется, можно найти другой отрывок там, где оно кажется запрещённым или опасным. Если в Еккл 1:13 можно прочитать, что человек должен «исследовать всё, что делается под небом», то мы также можем прочитать в Иер 31:37 что Господь отвергнет семя Израиля, «если небо может быть измерено вверху и основания земли исследованы внизу».
Но вернемся на минутку к только что упомянутому радикальному contemptus mundi и его отношению к современной науке. Чтобы заниматься последней, надо верить, что познание природы важно и желательно, а поскольку первое влечёт за собой убеждение в обратном, эти две установки не могут быть примирены друг с другом. Утверждалось {11}, однако, что contemptus mundi всё же поощряет создание современной науки, поскольку оно раз и навсегда покончило с идеей божественного характера природы и таким образом квалифицировал её как объект науки. Позже я и сам буду утверждать, что современная наука действительно зависит от идеи, согласно которой объекты природы не имеют внутренней ценности. Но характер этого, если угодно, «презрения к природе» и характер презрения к миру, обнаруживаемого в христианской литературе, – это не одно и то же. Ибо последнее – это не столько презрение к природе — к рекам и горам, скалам и деревьям, птицам и зверям — сколько презрение к «мирским предметам», то есть к богатству, власти, славе, телесному здоровью, чувственным удовольствиям и т. д., а также к знанию, поскольку оно не имеет религиозного характера. Но это не означает, что объекты такого знания должны быть включены в презрение. Осуждающий предприятие классического философа, который хочет установить природу справедливости, не осуждает справедливость. Видеть в деятельности астронома гордое и тщеславное предприятие не значит видеть в звездах и планетах объекты, не имеющие ценности. (На самом деле, если Бог создал их, они, по-видимому, должны иметь некоторую ценность.) Выражаясь несколько утрировано, можно сказать, что contemptus mundi влечёт за собой презрение к знаниям, но не к объектам природы, тогда как деятельность современной науки влечёт за собой высокое почитание познания природы и презрение к её объектам. Они могут, следовательно, рассматриваться как противоположности, и нет никакого пути, ведущего от одного к другому.
Но если догмат о грехопадении всегда был препятствием для христианского защитника науки, то это лишь часть аргументации такого рода. Современная наука с самого начала рассматривалась как человеческое предприятие по улучшению и, возможно, даже устранению человеческих страданий, то есть последствий грехопадения, тогда как по христианскому учению не может быть и речи о том, что эти последствия можно преодолеть светскими средствами. Фрэнсису Бэкону уже приходилось преодолевать некоторые трудности, чтобы примирить грехопадение человека (и природы тоже) с ожидаемым возрождением человека новой наукой. Падение, заявил он, произошло не из-за желания человека познать природу, а лишь из-за желания познать добро и зло и таким образом стать подобным Божеству. Однако произошло второе Падение, вызванное его попыткой «приложить печать своего собственного образа к творениям и делам Божиим, вместо того, чтобы внимательно изучить и узнать в них печать Самого Творца» {12}. Другими словами, второе Падение произошло из-за гордого стремления (особенно аристотелевцев) познать природу посредством силой врожденного разума, не занимаясь наблюдением и экспериментом. Но его последствия (а это означает по большому счету потерю человеком его господства над природой) может быть преодолено новой наукой, тогда как последствия первого Падения можно преодолеть только религия. Из подобных взглядов можно увидеть, до какой степени ревизионистский подход действительно есть подход Бэкона, подчищенный для двадцатого века, особенно в том, что касается ассоциации науки через эмпиризм со смирением, а классической и схоластической философии через рационализм – с высокомерием и гордостью.
IV
Я сказал или подразумевал, что негативное отношение раннего христианства к светскому знанию зависело от негативного отношения к миру, которое, в свою очередь, возникло из христианской догмы о грехопадении. Может казаться, что это представляет собой абсолютный разрыв с классической традицией, и в во многих отношениях это действительно так. С другой стороны – и в не меньшей степени – это не мешало, а, возможно, даже поощряло преемственность в других отношениях, и я имею в виду, в частности, различие между действием и созерцанием, причём последнему придавалось большее значение.
Латинские слова “contemplatio” и “contemplari” имели свои более ранние аналоги в греческом – “theoria” и “theorein”. В обоих случаях обозначаемое было формой знания и образом жизни одновременно, так что созерцательное знание можно противопоставить практическому знанию, а размышление – действию. Хотя эта традиция восходит к досократикам {13}, её наиболее ясное выражение в классические времена появляется позже. Созерцание – это непринужденное, безмятежное вѝдение истины, не имеющее никакой цели вне себя. Таким образом, оно абсолютно не подвержено любым соображениям практики или полезности. Это влечёт за собой не только отсутствие каких-либо попыток изменить существующее положение вещей, но даже простое желание, чтобы вещи были другими, чем они есть. В то же время оно таково, что сохраняется различие между созерцающим субъектом и созерцаемым объектом. Они остаются раздельными и находящимися на расстоянии друг от друга и не сливаются в мистический союз.
Созерцательная жизнь, по Аристотелю, превосходит все другие, даже политическую жизнь, потому что она одна составляет счастье. Все остальные поступки «лишают досуга и ставят перед собою определённые цели, а не избираются во имя них самих», тогда как созерцание (и только оно) самодостаточно, неторопливо и неутомимо. Такая жизнь, однако, не является истинно человеческой, и человек может жить таким образом только потому и поскольку в нём присутствует нечто божественное {14}.
Если мы рассмотрим христианское мироощущение, мы обнаружим, что в течение действительно очень долгого времени ядро классической концепции сохранялось, несмотря на тот факт, что объектом созерцания теперь стал христианский Бог и что созерцательная жизнь обычно ассоциировалась с монашеской жизнью. Важным моментом является то, что, хотя активная жизнь была задумана как самая важная часть, заключающая в себе осуществление христианской благотворительности, пальма первенства всё же была отдана, как и в классические времена, созерцанию. Библейское оправдание этого предпочтения, которое можно встретить у Оригена, Августина, Григория Великого и других, было представлено эпизодом с сёстрами Марфой и Марией в Евангелии от Луки (10:38–42): когда Марфа пожаловалась Иисусу, что Мария просто сидела и слушала у ног Господа, вместо того, чтобы помогать сестре в служении, Он ответил: «Марфа! Марфа! Ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно; Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у неё».
Под этим подразумевалось, что хотя активная жизнь на благо другим хороша, созерцательная жизнь вѝдения Господа лучше. Ибо, как сказал Августин, то, что выбирает Марфа, проходит: она служит голодным, жаждущим, бездомным: но все это уходит, тогда как часть Марии непреходяща {15}. Или, короче, действие, даже благотворительное действие, является лишь средством для достижения цели, тогда как созерцание является целью само по себе. Конечно, христианский долг быть милосердным не отрицался Августином или кем-то ещё. Но ему не было дано того полного масштаба, который ему склонны приписывать современные богословы. Быть благотворительным тогда значило заботиться об основных потребностях тех, кого случайно встречаешь, и Августин добавил к этому, что не следует также отказываться от государственной должности, когда возникнет необходимость. Но он, как и другие, подчеркивал, что это бремя, наложенное на нас, и к нему не следует стремиться и наслаждаться им самим {16}.
Со временем произошли изменения в понимании vita activa и связь с vita contemplativa также стала воспринимается несколько иначе. Но последняя по-прежнему считалась лучшей из двух. Взглянув хотя бы бегло на Фому Аквинского, мы находим, что для него не только активная жизнь должна проистекать из созерцания, чтобы иметь ценность, но активная жизнь есть, собственно говоря, подготовка к созерцательной жизни: vita activа est dispositio ad contemplativam {17}. Ибо, хотя первое приносит с собой свой собственный род счастья, оно по самой своей природе не может быть местом последнего пристанища и поэтому находит свое осуществление только в последнем. Другими словами, Фома соглашается с Аристотелем, что последнее и высшее счастье может состоять лишь в созерцание: ultima hominis felicitas (est) in contemplatione veritatis {18}.
Только с гуманизмом эпохи Возрождения превосходство созерцательной жизни стало сомнительным. Те, кто был намерен возвратиться к классическим источникам, уже не были уверены в этом классическом идеале и стали задумываться над тем, действительно ли не следует в конце концов отдавать предпочтение vita activa (а это для многих означало теперь гражданскую, политическую жизнь).
Однако когда мы переходим к Фрэнсису Бэкону, главному трубачу современной науки, как его называли, то тут едва ли существует ещё какой-то вопрос: созерцание отсутствует, а действие присутствует. И следует ожидать, что человеку, который видел в знании силу, не было бы смысла в созерцать. Приобретение и применение силы, которой является знание, ассоциировалось у Бэкона с христианской благотворительностью. И благотворительность для него не означала больше относительно скромную обязанность помогать нуждающимся, которых мы встречаем в повседневной жизни, она означала не что иное, как улучшение благополучия человечества. Поскольку этого можно достичь только знанием основанном на действии (т. е. на эксперименте) и полезном для действия (т.е. для технологических и других приложений), неудивительно, что созерцательная жизнь и познание приобрели для Бэкона характер эгоистичных идеалов. Общее благо, считал он, «предопределяет решение вопроса о том, является ли созерцательная жизнь, предпочтительнее деятельной, и опровергает мнение Аристотеля. Дело в том, что все доводы, которые он приводит в защиту созерцательной жизни, имеют в виду только личное благо и лишь наслаждение или достоинство самого индивидуума» {19}. Как видно из этого отрывка, Бэкон уже не осознавал проблемы, которая занимала столь многих его предшественников, проблемы целей в отличие от средств: если человек милосердия достиг того, чего намеревался достичь: голодных накормят, нагих оденут, бездомных приютят, больных излечат — что ему тогда делать, для чего ему тогда жить?
Нет нужды доказывать, что позиция Бэкона должна была стать преобладающей в современном мире. Марксист, либерал, позитивист, экзистенциалист – все они разделяют отвращение к идеалу, который в домодернистские времена никогда не вызывал серьезных споров. Бэконовское обвинение в эгоизме эхом отдавалось на протяжении трёх столетий {20}, и, как и следовало ожидать, его можно также найти, явно или неявно, в ревизионизме, когда, например, «отношение философской отстранённости и отчуждённого интеллектуального превосходства к практической пользе» противопоставляется «христианскому долгу “заботиться о” физическом благополучии и улучшении своих собратьев» {21} или когда «идеальный человек мудрейшего из древних» характеризуется как «снобистский педант, с которым нам не хотелось бы встречаться сегодня» {22}.
В этом отношении ревизионистская позиция, безусловно, последовательна, поскольку само собой разумеется, что идеал созерцательного познания не может иметь места в современной науке. Её цель и характер другие, и то, что в науке теперь называется «теорией», не имеет ничего общего с theoria или contemplatio. Следовательно, если кто-то хочет представить науку как детище христианства, нужно либо вообще игнорировать созерцание, либо отрицать что оно составляет подлинную часть христианской традиции. По определению, если бы это было так, то тогда в христианстве не было бы места для созерцания или было бы, но очень незначительное, а всё важное пространство было бы заполнено действием, то есть благотворительностью. Но такая позиция не может быть обоснованной хотя бы потому, что эта религия, среди прочего, является историческим феноменом, и мы в двадцатом веке не имеем права выступать в роли судей по вопросу о том, что означает «христианство», не принимая во внимание то, чтό в течение большей части его существования христиане считали таковым. Ревизионистский тезис должен быть отвергнут, если и ни по какой-нибудь другой причине, то потому, что он отрицает, хотя бы косвенно, что эта религия придаёт очень высокое и, возможно, высшее значение созерцательному знанию по сравнению с любым знанием, которое можно назвать научным.
V
Ревизионисты, подобно Бэкону, склонны связывать познание с благотворительностью и, таким образом, с активной жизнью (и, следовательно, должны выступить против созерцания). Эта связь осуществляется в предположении, что результаты научного познания могут быть использованы на службе человеческого благополучия — идея, которая обычно выражается на языке власти. Природа впервые вынуждена раскрыть свои тайны человеку (когда, говоря языком Бэкона, она, «поставлена перед вопросом» экспериментатора), и затем вынуждена вести себя в соответствии с желаниями человека, то есть не причинять ему вреда и облегчать его жизнь. В классические времена такое предприятие было бы расценено как нечестивое и, следовательно, как опасное и даже сравнительно простые мероприятия, такие как запуск корабля или построение дома, должны были быть окружены религиозными церемониями, чтобы исключить или уменьшить эту опасность.
Когда мы спрашиваем, почему изменилась эта позиция, нам дают ответ, что согласно христианской концепции Бога-Творца природа больше не воспринимается как священная. Однако одного этого недостаточно, чтобы установить обоснование для безоговорочного приобретения и осуществления власти над природой. Ведь попытка одной вещи, сотворённой Богом, обрести власть над всеми другими вещами, сотворёнными Богом, также может рассматриваться как нечестивая и самонадеянная. Ибо нужно предполагать, что Бог сотворил все вещи в их собственных правах и ради их собственных целей, и что если бы Он намеревался предоставить одному доминирование над остальными, он бы предоставил это доминирование с самого начала.
Но это, скажут, именно то, что сделал Бог; когда Он создал человека, Он даровал ему именно такое исключительное положение. То, что составляет этот ответ, сводится к признанию того, что небожественность природы на самом деле не является решающим моментом. Решающее значение имеет особый статус человека в природе, и ревизионисты, подобные Бэкону и многим другим, бывшим до них, стараются, как правило, установить этот особый статус, ссылаясь на Священное Писание, точнее, на две идеи, которые, хотя и тесно связаны, но всё же разные. Первая из них заключается в том, что человек, и только человек, был создан по образу Божию, а вторая – что человеку дана власть над остальным творением. Ключевой для обеих идей отрывок – это, конечно, Быт 1:27–28, который (в Пересмотренной Версии) читается следующим образом:
И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле.
Поскольку я не собираюсь углубляться в библейскую экзегезу, я ограничусь некоторыми простыми размышлениями общего характера, начиная с понятия владычества.
Представляется совершенно неправдоподобным, что смысл этого термина, или, скорее, оригинала на иврите мог быть таким, чтобы отражать отношение к природе и обращение с природой, характерное для современной науки. «Владычество» — это политический термин, и существуют исторические и другие причины, позволяющие предположить, что этот предмет следует рассматривать по аналогии с феноменом великодушного короля или правителя. Одно из различий (и, возможно, главное) между хорошим и плохим королём состоит в том, что первый осуществляет своё правление не в своих собственных интересах (или в своих интересах, но не в первую очередь), а в интересах своих подданных, тогда как плохой король — эгоистичный правитель. Это различие может быть выражено в терминах средств и целей или инструментальной и внутренней ценности. В худшем случае правитель относится к своим подданным просто как к средству для достижения своих целей, удовлетворения своих собственных желаний (которые направлены, конечно, не только на его материальное благополучие, но и на такие гораздо менее осязаемые вещи, как, например, его слава или прославление). Другими словами, он ведет себя так, как будто те, кем он управляет, не имеют ценности, отличной от того, чтобы быть для него полезным инструментом, и если его поведение основано на каком-либо убеждении вообще, то это убеждение в том, что именно он – тот, кто важен, кто имеет значение в мире, у кого есть внутреннюю ценность. С другой стороны, хороший король не станет отрицать такую ценность своих подданных и, как следствие, возьмёт на себя ответственность за них, даже если в качестве короля он имеет больше прав и привилегий и может использовать своих подданных как средство для достижения своих целей, поскольку эти цели связаны с этими правами и привилегиями.
Если принять эту аналогию, то станет очевидным, в каком смысле человеком должен быть принят дар власти над природой. Хороший и доброжелательный Бог не хотел, чтобы человек был эгоистичным правителем. Человек может использовать своих друзей-тварей для своих целей в той степени, в которой эти цели связаны с его исключительным статусом, но не более того. Как человек он обязан Богу, себе и своим подданным сохранять определённые стандарты и достоинство своего положения (как король обязан своему статусу короля жить и вести себя не как крестьянин), и это вызывает в известной степени необходимость использования других творений для своего собственных целуй. Следовательно, он имеет право возделывать почву, одомашнивать животных, убивать их ради еды, валить деревья и разрабатывать камни для строительства дома, добывать металлы для изготовления инструментов и другие подобные вещи. Без них его статус человека не мог бы быть поддержан.
Вот вам и интерпретация библейского утверждения о человеческом владычестве. Можно представить себе ответ многих из тех, кого я назвал ревизионистами. Они скажут, что именно это они и имели в виду, добавив лишь, что современная наука есть не что иное, как расширение и дальнейшее развитие оправданных действий, о которых я упомянул, или, скорее, знания на котором они основаны, и что критика в отношении эгоизма, на которую я ссылался, конечно, приложима к современной, научной версии господства, как она применялась к старой. Но такой ответ не подходит. Он вызван желанием и сохранить свой пирог, и съесть его, и в его основе лежит ошибочная концепция науки. Позвольте мне объяснить, почему.
Как и следовало ожидать, большинство ревизионистов уделяет большое внимание требованию, чтобы наука развивалась в религиозном духе. Они опасаются, что в противном случае ею могут (и, возможно, будут) злоупотреблять, и здесь они снова лишь следуют за своим предшественником Бэконом. Ведь Бэкон уже рассматривал возможность того, что новая наука, которую он пропагандировал, может «открыть такой фонтан, что нелегко будет понять, куда его струи и потоки будут распространяться и падать» {23}. Таким образом, он выразил надежду: «Пользование же <властью над природой> будет направляться разумным суждением и здравой религией» {24}. На самом деле это есть признание того, что внутри науки нет гарантий, которые предотвратят злоупотребления, и что религию (и через религиозную мораль) необходимо вызвать извне, чтобы сделать злоупотребления невозможными. И, по большому счету, это и сегодня позиция ревизионистов.
Но мы должны задаться вопросом: в каком отношении злоупотреблять и в чью пользу? Когда кто-то читает соответствующую литературу, например, Бэкона или его современных последователей, не остаётся сомнений в том, что авторы имеют в виду именно самого человека. То есть они опасаются, что злоупотребления наукой могут причинить ущерб человеку, а не природе (вернее, ущерб природе, но лишь постольку, поскольку ущерб человека является следствием). Другими словами, наукой следует заниматься в религиозном духе, чтобы мы не получили такие вещи, как Хиросима, Вьетнам, пустынные ландшафты и отравленные реки, а причина, по которой нам не следует их получать, – в том, что они пагубно влияют на человека и его счастье. Ревизионист здесь, конечно, опять заодно со своим временем: все разговоры о «заботе об окружающей среде», о «социальной ответственности науки» и тому подобном, в конечном итоге ориентированы на человека, а не на природу. Если ещё раз использовать старую аналогию, это похоже на случай с плохим королем, который переусердствовал с эксплуатацией своих подданных и обнаружил, что это отражается на нём лично. Поэтому ему рекомендуется изменить свои пути не в интересах своих подданных, а в своих собственных интересах. Подданные остаются теми, кем они всегда были, – всего лишь средствами или инструментами.
Однако я должен признать, что некоторые ревизионисты идут дальше этого гуманизма и говорят о любви человека к природе, о его детском удивлении перед своими собратьями по творению и о сакраментальном взгляде на чувственный мир. Если человек любит Бога, рассуждают они, он должен любить и то, что создано Им {25}. Но хотя они, может быть, и правы в данном случае, их позиция в целом непоследовательна. Ибо защита любви к природе в конечном итоге не идёт вместе с защитой полезности, по той простой причине, что тот, кто любит в природе только то, что доставляет ему удовольствие или что, по крайней мере, не вредит ему, вообще не любит природу. По-видимому, вирус, который вызывает бешенство, самую ужасную болезнь, также является творением Божьим, и если мы любим природу, мы должны включить его в свою любовь. Среди прочего это означало бы, что, хотя мы и можем его контролировать, нам не позволено его истребить, даже если бы мы были в силах это сделать. Ибо любовь к вещи совместима с её исправлением и ограничением, но не с её истреблением. И когда Ной последовал повелению Бога и наполнил свой ковчег животными, мы не слышим, чтобы он включал только тех, которые были полезны или безвредны для человека. Хищные звери, ядовитые змеи и скорпионы, и, по-видимому, также вирусы вошли в ковчег так же, как коровы и овцы, ласково кролики и красивые павлины.
Однако если это так, то мы имеем противоречие с принципом благотворительности в его бэконовской, утилитарной версии, которой придерживаются ревизионисты. Там, где милосердие к человечеству иногда требует истребления, любовь к природе всегда требует её сохранения. Или, выражаясь в более общем плане, в одном случае творения имеют внутреннюю ценность, независимую от человека; в другом они имеют для человека лишь инструментальную ценность (конечно, не только в том, что касается физической пользы, которую он из них извлекает, но и в отношении таких вещей, как эстетическое удовольствие).
Таким образом, идея о том, что современная наука основана на двух могучих столпах или основных мотивах – любви к природе (с вытекающим из этого чудом и любопытством по этому поводу) и благотворительности по отношению к человечеству (с вытекающей из этого идеей использования знаний о природе на благо человека), несостоятельна. На самом деле, что касается науки, любовь к объектам, с которыми она имеет дело, может быть только помехой и отвлечением, и это лишь часть смысла общего утверждения о том, что наука есть и должна быть «нейтральнойй» или «свободной от ценностей», или что она признает только одну ценность — ценность истины или рационального поиска истины. Человек, который рассматривает вещи в своей лаборатории (будь то минералы, растения или животные) не в качестве инструмента для достижения своей цели решения интеллектуальных или практических проблем, а каким-либо иным способом и который — пока он работает над ними и с ними — осознает, что они имеют внутреннюю ценность и собственное достоинство, такой человек не продвинется далеко в своём исследовании, если он вообще может участвовать в каком-либо исследовании. (Какое отношение он усваивает себе, когда выходит из лаборатории, это другой вопрос. Но это не имеет отношения к тому, что я говорю.) Представлять современную науку каким-либо другим способом значит искажать её {26}.
По тем же причинам также является искажением описывать науку как просто расширение и улучшение чего-то, что всегда имело место. Согласен, в господстве над природой в том смысле, в котором я рассматриваю его здесь, нет ничего нового. Можно даже сказать, что это именно то, что создаёт человека. Но современная наука является чем-то новым, а не просто продолжением этого господства другими средствами. Человек, который запрягает вола, чтобы вспахать своё поле, и человек, который втыкает электрод в мозг кошки, чтобы расширить свои знания (какими бы полезными эти знания, возможно, ни ожидались) не могут быть помещены вместе под одним заголовком «владычество над природой». Дело не в том, что вспашка полей необходима для человеческой жизни, тогда как такая необходимость не присутствует во втором случае. И дело здесь также не в жестокости – ведь я знаю, что кошка, о которой идет речь, ничего не чувствует. Решающая разница заключается в том, что в одном случае существу приписывается исключительно инструментальное значение, тогда как в другом случае инструментальный характер является лишь частичным. Я имею в виду здесь не только и даже не главным образом тот факт, что животные когда-то имели мифологические и религиозные ассоциации (бык в хлеву Вифлеема, бык как символ плодородия и др.). Просто для крестьянина его вол — это не просто вещь, которую можно использовать для какой-то цели, а существо, имеющее свои права и интересы, даже если они должны быть отвергнуты, свои собственные добродетели и пороки, как бы свою собственную личность, и за которое, следовательно, пока оно живо, он несёт ответственность. Никакие такие права и интересы не признаются, никакая такая ответственность не принимается в случае с лабораторной кошкой, и именно поэтому две ситуации различны не только по степени, но и по сути.
VI
Я попытался показать, что библейское утверждение о владычестве человека над природой рассматривалось как обеспечивающее оправдание для предприятия современной науки, но на самом деле его следует понимать в том смысле, что предусмотрено не такое обоснование. Однако сомнительно, что попытка христианской апологии науки продвинулась бы очень далеко без другого библейского утверждения, утверждения, что человек — а имеется в виду только человек — был создан по образу Божию. Кажется, это гораздо более сильное утверждение, ибо, хотя относительно легко перейти от подобия человека Богу к его праву на владычество, не так-то легко перейти от последнего к первому, и в Бытии утверждение об образе Божьем, конечно, предшествует утверждению о владычестве.
Излишне говорить, что доктрина образа Божьего очень легко подлаживается к возвышенному взгляду на человека, на его права и возможности, особенно если уравновешивающая доктрина грехопадения забыта или преуменьшена. Говорилось {27}: «Если человек был создан по образу Божьему, то естественно можно ожидать, что он в состоянии делать по крайней мере некоторые вещи, которые делал Бог», а Бэкон (который, как и следовало ожидать, придавал большое значение концепции образа Божьего) уже рассматривал человека как что-то вроде соработника Божьего {28}. Основная идея здесь, по-видимому, заключается в том, что посредством науки человек увеличивает свое подобие Богу, потому что он получил возможность подражать Ему в Его делах в несравненно большей степени, чем всё, бывшее прежде. Правда, что человеку никогда не удастся творить ex nihilo; но — кто знает — однажды он, возможно, будет в состоянии создать жизнь, разум и, вероятно, даже материю. По крайней мере, это кажется обещанием, которое доктрина образа Божьего предоставляла и предоставляет для многих людей.
Но есть и другой аспект дела, который в данном контексте имеет большое значение, и это снова касается позиции человек по отношению к природе. Короче говоря, от представления о том, что человек создан по образу Божию, при поддержке другой идеи, что человек получил власть над природой, ведёт маленький, но роковой шаг к дальнейшей идее о том, что Бог создал природу ради человека. Аргументацию здесь, вероятно, можно грубо реконструировать следующим образом. Если Бог создал человека по Своему образу, Он создал его в чем-то похожем на Бога. Но Бог является правителем (Он, по сути, верховный правитель мира), и постольку, поскольку человек подобен Ему, человеку тоже придётся быть своего рода правителем. Но для того, чтобы быть правителем, он должен иметь что-то, чем править, а без предварительного существования и, следовательно, предшествующего творения чего-то, над чем человек может властвовать, идея (и обещание), что человек создан по образу Божию имела бы мало смысла. Но в Писании ведь сказано не только то, что человек был создан после всех других существ, но также и то, что ему была явно дана власть над ними. Поэтому само собой разумеется, что всё остальное, то есть природу, Бог создал ради человека.
Без сомнения, в качестве формального аргумента это не годится. Но на первый взгляд это достаточно правдоподобно, и это всё, что имеет значение. Ибо облик, который религия может приобрести или не приобрести, не определяется логиками. На приведённые здесь рассуждения также не сильно влияет доктрина грехопадения, и даже тот, кто признаёт всю его тяжесть и важность, может всё же сказать, что, поскольку более позднее событие не может изменить более раннее, оно не может опровергнуть утверждение о том, что природа была создана ради человека. Если он далее предположит, что природа пала вместе с человеком, он может даже правдоподобно утверждать, что первоначальное отношение сохраняется – что природа и сейчас по-прежнему существует ради человека.
Все это можно было бы расценить как чистую спекуляцию с моей стороны. Но факт остаётся фактом: идея о том, что природа существует ради человека, действительно возникла и что она возникла в рамках христианской религии. Началась она с малого, приобретала всё больший и больший импульс, в значительной степени оторвалась от религиозного контекста и, кажется, сегодня имеет статус почти самоочевидного принципа, даже если он редко выражается эксплицитно. На самом деле, вряд ли можно сомневаться, что эта идея составляет одно из главных отличий древних людей от современных, современной субъективности и самосознания от классической объективности и самобезразличия. Ибо греки {29} определенно не считали природу существующей для человека, и вряд ли здесь нужно такое эксплицитное утверждение, как в «Законах» Платона («ты создан ради целого, а не целое ради тебя») {30}, чтобы это доказать. Почему– в греческом мышлении – человек даже не занимал высшее место среди творений природы? – Потому что над ним существовали, по крайней мере, вечные и неизменные небесные тела! Как тогда всё остальное могло существовать ради него?
У евреев и христиан картина другая. Бог перемещается в центр, и этот Бог имеет особое и специальное отношение к человеку. Вопрос в том, следует ли по этой причине перемещать в центр человека вместе с Богом. В Священном Писании нет никаких утверждений о том, что Бог создал природу для человека, но, как я пытался показать, такой вывод можно было сделать без особого труда. Тем не менее, кажется, что прошло более тысячи лет, прежде чем этот вывод действительно был сделан. У Гуго Сен-Викторского в двенадцатом веке мы находим не только мнение, что Бог создал человека как possessorem et dominum mundi (формулировка, по отношению к которой декартовское “maîtres et possesseurs de la nature” пятьсот лет спустя звучит почти как перевод) {31}, но также и то, что мир имеет свою конечную причину в сотворении человека: “si enim omnia Deus fecit propter hominem, causa omnium homo est” {32}. Однако нельзя сказать, что заявление такого рода было типично для Средневековья. Были тогда живые традиции, которые препятствовали этой идее, и здесь, как и везде, дела действительно изменились только с эпохой Возрождения, когда антропоцентризм начал становиться правилом. Душа человека, заявил Фичино в 1474 году, есть центр вселенной, её связь и соединение, средний термин всех вещей {33}.
К концу XVIII века эта точка зрения, по-видимому, полностью утвердилась. сформировалась. Ведь в 1790 году Кант мог заявить, что даже «самое обычное Понимание... не может удержаться от суждения, что все различные существа, какое бы великое искусство ни было проявлено в их устройстве и как бы разнообразна ни была их целенаправленная взаимосвязьюю.., были бы напрасны, если бы не было еще и людей (разумных существ вообще). Без людей всё творение было бы пустой тратой, напрасной и беcцельной» {34}. У Гегеля ситуация не менее ясная. В своей метафизике он рассматривал природу как фазу самоотчуждения абсолютной идеи, а в своей философии религии он видел в ней «всего лишь завуалированное и несовершенное воплощение Бога», что-то, «существующее для Духа и для Человека» {35}. Однако cамый крайний случай среди немецких идеалистов, видимо, представляет Шеллинг, который толковал христианство в том смысле, что только в человеке Бог возлюбил мир, что на самом деле существует «слабость Бога к человеку». Человек, следовательно, является конечной целью вселенной, тем существом, к которому стремится всё творение, и таким образом, имеет абсолютное универсальное значение {36}.
Я выбрал эти примеры, потому что они ясны и по-прежнему демонстрируют религиозные истоки современного антропоцентрического гуманизма. Однако было бы ошибкой думать, что такое отношение присуще только нескольким немецким философам. Эти люди были по большей части метафизиками.и убежденным христианами. Таким образом, они свободно выражали своё мнение в телеологическх и религиозных терминах. Но антропоцентричность, лежащая в основе, не зависит от используемого языка и может быть обнаружена почти во всех влиятельных системах идей девятнадцатого века и далее. Для марксистов само собой разумеется, что человек и только человек имеет какое-либо значение, а природа — это всего лишь средство и материал для развития человеческих производительных сил. (Самому Марксу приписывается утверждение, что «индивидуальный дух велик и свободен лишь постольку, поскольку велико его презрение к природе» {37}.) Тот факт, что для экзистенциализма всё вращается вокруг человека и природа не играет никакой роли, уже подразумевается в его названии. Для утилитаризма в его различных формах «человекоцентричность» также не подлежит сомнению. Недавний критик очень хорошо выявил ключевой момент, о котором здесь идёт речь: ничто не имеет значения кроме состояний ума или чувств (что почти во всех случаях означает человеческие состояния); что-либо ещё из числа природных или искусственных предметов считается всего лишь инструментом для создания этих состояний; и если бы человек перестал существовать, в мире не осталось бы никаких ценностей, то есть, ничего, чему можно приписать положительную или отрицательную ценность {38}.
Мой тезис, таким образом, состоит в том, что согласно воззрениям, преобладающим в наше время, природа существует ради человека, или её можно и нужно рассматривать как существующую ради него. Но спросят: как такое возможно? Разве не является сегодня общим убеждением и разве современное сознание не сформировано в существенном отношении этой верой в то, что за последние два столетия различные науки неоспоримо показали, что человек не обладает особым статусом, но является частью природы, в частности, является, не чем иным, как высокоразвитым приматом? Как можно совместить это убеждение с идеей о том, что природа существует ради человека? Этот вопрос оправдан и указывает на один из парадоксов современного сознания, на раскол, который проходит длинный путь, чтобы объяснить беспокойство и неопределённость человека относительно его положения в современном мире и его колебания между чувством величия и ничтожества. С одной стороны, он видит себя существом, чьим желаниям природа служит или должна служить, правителем, который обладает не только способностью, но также и правом заставлять всё остальное подчиняться его воле. Но с другой стороны, он видит себя «ничем, как только» частью природы, неотрывной от других частей, и усваивает разочарованный реализм, претендуя на то, чтобы «видеть насквозь» все притворства и самообманы предыдущих эпох, на способность рассмотреть «просто» природу в том, что когда-то казалось специфически человеческим. Слова «ничего кроме» и «просто» здесь уместны, поскольку природа теперь мыслится исключительно секулярным образом; она указывает только на саму себя и ни на что больше; она не рассматривается больше как имеющая сакральное или духовное значение, поскольку рассматривать её таким образом было бы антропоморфизмом, — и это, конечно, также препятствовало бы рассмотрению природы как средства для достижения цели.
У этой парадоксальной ситуации может быть только одно следствие, а именно: попытка самоманипулирования. Человек управляет природой; человек является частью природы; следовательно, человек управляет собой, и, делая это, он становится своим собственным освободителем. Ибо тогда он полностью определяет, кем он является и кем он должен быть. Пафос самоопределения датируется примерно тем же временем, что и современная наука. В 1487 году Пико делла Мирандола сочинил речь о достоинстве человека, в которой Бог объявляет Адаму, что он не давал ему фиксированной задачи, статуса или положения, но что Адам должен сам определить все это для себя {39}. С тех пор взгляд на человека как на существо без специальной или предопределённой природы, в той или иной форме, всегда был с нами. У человека нет сущности, а есть только существование; у него нет природы, а есть только история, и эту историю он творит сам: лозунги такого рода слишком знакомы.
В конце концов они всегда приводят к активистской, волюнтаристской концепции. Если стабильный, неизменный элемент, называемый «человеческой природой», не существует, то то, что люди делают, чувствуют или думают, индивидуально или коллективно, зависит исключительно от случайных факторов — физических, биологических, социальных и остальных, это не имеет значения. Важно то, что случайные факторы изменчивы, и что (по крайней мере, в принципе) они могут быть изменены человеком. Короче говоря, человек может трансформировать или перестраивать себя по желанию; если он захочет, он может стать «новым человеком». То, что эта идея лежит в основе марксизма, очевидно. То, что эта идея также лежит в основе любого другого основного Weltanschauung (мировоззрения) нашего времени, возможно, менее очевидно, но, тем не менее, верно. Просто в марксизме это было изложено, систематизировано и универсализировано, как ни в каком другом случае.
Однако фундаментальный парадокс не устраняется идеей самоопределения. Он лишь выражается по-другому. Ибо идея, что человек определяет и, следовательно, манипулирует собой, непоследовательна и сказать, что он сам себе создатель и формовщик, в конечном итоге значит не сказать ничего вразумительного.
VII
Может показаться, что я отвлёкся от своей первоначальной темы – критики взгляда на отношения между современной наукой и христианской религией. Но это отступление скорее кажущееся, чем реальное. Ибо вера в то, что природа существует ради человека, логически связана с верой в то, что объекты природы не имеют внутренней ценности, а только инструментальную, и, как я уже указывал ранее, это вера, которая присуща и существенна для современной науки. Поскольку существует чёткая линия развития, которая связывает христианское учение об imago Dei с этим инструментальным и антропоцентрическим взглядом на природу, постольку существует также историческая связь между христианством и наукой, в частности, потому что рассматриваемое учение принадлежит к самой сути христианской веры.
Но если это моя точка зрения, разве это не равносильно ограниченному одобрению ревизионизма? Ибо, отвергнув тезис о том, что библейское утверждение о владычестве человека может быть справедливо использовано в качестве религиозного оправдания предприятия современной науки, разве не показал я, что из-за другого такого утверждения — «человек был создан по образу Божьему» — такое оправдание все-таки возможно, даже если я не разделяю ревизионистского взгляда, что оно благоприятно отражается на его религии? Короче говоря, разве я не изменил просто одобрение ревизионистов на неодобрение и не выступил с представлением, по сути, не отличающимся от представления современного автора, по мнению кторого «тот факт, что современный освобождённый человек посредством своей научной технологии теперь делает всё, что он может сделать, и не подражает природе, а побеждает её, всё ещё имеет свою последнюю и глубочайшую основу в модели того Бога, чья творческая воля создала мир ради человека» {40}?
Мой ответ на эти вопросы отрицательный, и я должен лучше объяснить, почему это так. Здесь задействованы два момента, и первый из них заключается в следующем. Если, по аналогии с традиционной исторической периодизацией, мы говорим о развитии от классического мировоззрения к христианскому и от христианского к современному (это развитие, если я прав, можно также охарактеризовать как движение от космоцентрической через теоцентрическую к антропоцентрической точке зрения), ревизионист считает второе почти идентичным третьему. По крайней мере, он считает, что христианское и современное сознание имеют гораздо больше, и гораздо более существенных общих моментов, чем классическое и христианское. Но при этом упускается из виду несколько важных факторов, например, фактор созерцания в противовес действию, о котором я говорил ранее. Однако при этом также упускается из виду самый фундаментальный момент из всех, а именно, что классическая и христианская позиция были обе религиозными, тогда как современная - нет. Для древних и средневековых людей даже относительно простой объект, такой как мост или поле пшеницы, и относительно простая деятельность, такая как строительство моста или засевание поля, имели религиозное значение. Они не имеют такого значения сегодня, и что касается человеческого сознания, то это разница такой величины, что все остальные вещи становятся относительно неважными.
Мой второй момент более сложен. Здесь также под вопросом находится правильная концепция исторического развития. Я не верю, что можно приписывать ответственность, и, следовательно, можно хвалить или обвинять, прошлую философию или религию за выводы, которые люди сделали из неё впоследствии. Возьмем простой пример: Гитлер и его люди очень любили восхвалять таких мыслителей, как Гегель и Ницше в качестве своих духовных предков, и противники нацистов были в равной степени склонны обвинять их по той же причине и считать их в какой-то мере ответственными за ужасные вещи, которые произошли в Германии и Европе между 1933 и 1945 годами. Но это не справедлво. Гегель, если рассматривать его одного, не был нацистом, и его идеи не были нацистскими идеями. Просто много времени спустя после его смерти некоторые люди использовали его философию как источник, из которого они брали то, что подходило для их книг, игнорируя контекст и забывая всё остальное. То, что они так поступали, не было ошибкой Гегеля или его системы. Конечно, его идеи должны быть оценены и раскритикованы, и кто-то может счесть их приемлемыми или неприемлемыми с моральной или иной точки зрения. Но если их винить или хвалить, их следует винить или хвалить по их собственному праву, независимо от вопроса, как их позже использовали другие люди – Маркс, или Гитлер, или кто-либо ещё. Гегель может отвечать только за себя.
Верить в иное — значит согласиться с тезисом о том, что история следует некоему необходимому развитию, имеет, так сказать, «внутреннюю логику», такую, что если один человек говорит «А» в одно время, то его преемники обязаны сказать «Б» в более позднее время, т. е. что одна точка зрения или одна идея неизбежно порождает из себя следующую точку зрения или следующую идею в историческом ряду. (Тот факт, что я использовал Гегеля в качестве примера, ироничен, поскольку именно он был главным пропагандистом точки зрения, которую я сейчас критикую.) Несомненно, есть связи между событиями, идеями, положениями дел в истории, но они не такого рода. Если бы не было битвы при Ватерлоо, то, скорее всего, не было бы и битвы под Сталинградом. Это не означает, что после битвы при Ватерлоо должна была состояться и битва под Сталинградом, или что Наполеон и Веллингтон были в какой-то мере ответственны за то, что произошло в России более века спустя. Точно так же возможно и даже вероятно, что без Гегеля и гегелевской системы не было бы гитлеровской идеологии. Но опять же, из этого не следует, что при наличии первого второе было неизбежным или даже вероятным. История идей не похожа на длинную цепь умозаключений, непрерывный исторический процесс, где взгляды людей постоянно формируются как логические выводы, выведенные из взглядов их предшественников.
Соответствие этих замечаний нашей теме должно быть очевидным. Ревизионисты хотят сказать, что современную науку следует рассматривать как логический результат христианской веры. Их взгляд во многом основан на том факте, что ранние пропагандисты и практики науки, такие люди, как Бэкон, Кеплер и Ньютон, были склонны давать своей науке религиозную интерпретацию и оправдание. Но это означает лишь то, что их понимание христианства позволяло им чувствовать свои цели и действия как санкционированные им, а это было немаловажно в то время, когда религия всё ещё была силой в жизни людей. Их интерпретация была однобокой; они подчеркивали то, что соответствовало их цели, и преуменьшали то, что не соответствовало (что, я думаю, совсем не является необычной процедурой).
Я не хочу отрицать, конечно, что существует преемственность, переход от средневекового к современному менталитету, а также к современной науке. Многие концепции медленно трансформировались; акценты постепенно менялись; старые цели постепенно заменялись новыми. Поэтому утверждение, что современная наука развилась из христианства или выросла из него, подобно тому, как из него выросли многие другие вещи, не является абсолютно неверным. Но данное утверждение — это в лучшем случае очень краткое описание очень сложного исторического события, и это описание совершенно ложно, если вопрос рассматривать по биологической или логической аналогии. Наука не выросла из этой религии, как дуб вырастает из жёлудя. Ибо нет ничего естественного, предопределенного, логического в историческом развитии. Нет никакой внутренней логики, по которой, учитывая нечто, называемое «христианством», нечто другое, называемое «современной наукой», не могло бы не произойти даже в том случае, если выполняется некоторый набор «нормальных условий» (сравнимых с теплом, влажностью и т. д. в случае жёлудя). Самое большее, что можно допустить, это то, что если бы не было такой религии, то, вероятно, не было бы и современной науки, и это говорит только о чём-то очень тривиальном, особенно поскольку это можно сказать о многих других вещах помимо христианства.
Всё это означает, что нельзя разумным образом ни хвалить, ни порицать христианскую веру за науку. Пытаться сделать капитал для религии из того факта, что без неё не было бы науки, это как пытаться показать, что серьёзный несчастный случай с человеком был хорошим делом, потому что без него он не встретил бы свою будущую жену, медсестру в больнице. Можно хвалить или порицать эту религию только за то, что она есть, и предполагая, что то, чем она является, определяется её основными доктринами, можно хвалить или порицать её за них. Возможно, доктрина о том, что человек, и только человек, был сотворён по образу Божьему, должна быть подвергнута критике, но эта критика должна проводиться независимо от вопроса о том, чтó люди сделали из неё после того, как эта доктрина существовала некоторое время,. Они сформировали из неё представление о том, что природа существует или может рассматриваться как существующая ради человека, представление, которое, по мнению, по крайней мере, некоторых людей, является пагубным. Но насколько я могу судить, это представление не является частью христианства и логически не эквивалентно доктрине imago Dei, и, похоже, прошло более тысячелетия, прежде чем кто-то его выдвинул. Поэтому я не могу винить или порицать эту религию за то, что ей не принадлежит. И это, в конце концов, также означает, что я не могу винить или порицать её за науку.
РОЛЬФ ГРУНЕР
Примечания
{1} В дальнейшем я буду употреблять термин «христианский» в значении «иудео-христианский», поскольку в данном контексте нет необходимости разделять элементы Нового и Ветхого Заветов. Термином «наука» (или «современная наука») я буду называть ту науку, которая существует со времён Галилея и Декарта.
{2} Учение, которое я называю «ревизионизм», было развито в следующих книгах и статьях: J. Baillie, Natural Science and the Spiritual Life (London, 1951); E. F. Caldin, The Power and Limits of Science (London, 1949); M. B. Foster, 'The Christian Doctrine of Creation and the Rise of Modern Natural Science', Mind, 43 (1934), pp. 446-68; M. B. Foster, 'Christian Theology and Modern Science of Nature', Mind, 44 (1935), pp. 439-66, 45 (1936), pp. 1-27; M. B. Hesse, Science and the Human Imagination (London, 1954); R. Hooykaas, Religion and the Rise of Modern Science (Edinburgh and London, 1972); A. D. Lindsay, Religion, Science and Society in the Modern World (London, 1943); and A. F. Smethurst, Modern Science and Christian Belief (London, 1955). Некоторые из этих авторов лишь отчасти касаются рассматриваемой темы, и никто из них не излагает позицию ревизиониста так полно, как я сделал это здесь. Другими словами, моё описание является композиционным.
{3} Smethurst, op. cit., pp. 21, 71.
{4} Ф. Бэкон. Развитие обучения. Кн. I.
{5} Например, Lindsay, op. cit., p. 40.
{6} Например, Smethurst, op. cit., p. 63.
{7} Hesse, op. cit., p. 47 и далее.
{8} Что касается самого Платона, то в любом случае говорить о его философия как о философии, в которой природе не приписывается никакой ценности, было бы искажением: в некоторых отношениях платоновский мир форм был бы недостаточным без чувственного мира, и Бог, «недополненный» природой, не был бы хорошим и, следовательно, божественным. См. по этому поводу A. O. Lovejoy, The Great Chain of Being (1934; переиздание: New York, 1960), p. 52 и далее.
{9} Список соответсвующих цитат можно найти в L. Feuerbach, The Essence of Christianity, transl. by M. Evans (London, 1854), pp. 282 и далее. (Appendix, §5). Русский превод: Фейербах Л. А. Сущность христианства // Л. А. Фейербах. Избранные философские произведения в 2-х т. Т. 2. М.: Политическая литература, 1955, – стр. 7–305.
{10} S. Johnson, The Lives of the English Poets (London, 1832), pp. 28, 29 (в очерке о Мильтоне).
{11} Foster, “Christian Theology . . .”, Mind, 44 (1935), p. 443.
{12} “Historia Naturalis et Experimentalis”, Preface. Bacon, Works, vol. V, p. 132.
{13} Cм. Диоген Лаэртский II, 10 об Анаксагоре.
{14} «Никомахова этика», X, 7, 1177b, 1 и далее (перев. W. D. Ross) <Русский перевод Н. В. Брагинской: Аристотель. Сочинения в четырёх томах, т. 4, М.: Мысль,1984, стр. 282 и далее>.
{15} «Проповеди», CLXIX, (Migne, P.L. XXXVIII, 925). Важно, что у мистиков, вроде Майстера Экхарта, мы находим нечто, прямо противоположное этой интерпретации (и, следовательно, развенчание созерцания): когда Мария сидела у ног Господа, она должна была ещё только достигнуть того, чего Марта уже достигла; она должна была ещё учиться быть “tüchtig”, быть активной и продуктивной. –“Maria und Martha, Sermon über Lukas 10. 38”. Meister Eckehart, “Schriften” (Jena, 1934), S. 254 – 262.
{16} «О граде Божием», XIX, 19. Здесь можно вспомнить Платона, который в «Государстве» (VII, 540), писал следующее: «Когда приходит их (философов) очередь, они вынесут тяжелый труд руководства политикой и управления ради своего города, рассматривая такое действие не как нечто благородное, а как принуждение, возложенное на их» (перев. A. D. Lindsay).
{17} В: 3 Sent., dist. 35, q. 1. a. 3. sol. 3.
{18} “Summa Contra Gentiles”, III, XXXVII.
{19} “De Augmentis Scientiarum”, книга VII, гл. 1 (Bacon, Works, vol. V, p. 8) <Русский перевод Н. А. Фёдорова: Фрэнсис Бэкон. Сочинения в двух томах, т . 1, М.: Мысль, 1977, стр 390>. В одном месте, правда, Бэкон признавал, что «созерцание вещей, каковы они суть, без суеверия или обмана, заблуждения или замешательства, более достойно само по себе, чем все плоды открытий». “Novum Organum”, I, CXXIX (там же, vol. IV, p. 115) <Русский перевод С. Красильщикова: Фрэнсис Бэкон. Новый Органон, М.: РИПОЛ классик, 2018, стр. 165>. За кажущимся несоответствием этих двух отрывков скрывается следующее: возможно, идея о том, что, хотя и рассматриваемое само по себе созерцание имеет высочайшую ценность, в этом несовершенном мире долг человека – отказаться от неё в пользу менее возвышенного типа знаний.
{20} Хорошим примером является Маколи. Он обвинял античных философов (особенно римских стоиков) не только в эгоизме, но также в лицемерии и неэффективности (они не сделали людей лучше). См. его эссе о Бэконе в Edinburgh Review, July 1837 (перепечатано в изданиях его «Очерков и слов о Древнем Риме»).
{21} Smethurst, op. cit., p. 46.
{22} Caldin, op. cit., p. 165.
{23} “Valerius Terminus”, гл. I ( (Bacon, Works, vol. III, p. 218).
{24} “Novum Organum”, I, CXXIX (там же, vol. IV, p. 115) <Русский перевод С. Красильщикова: Фрэнсис Бэкон. Новый Органон, М.: РИПОЛ классик, 2018, стр. 165>.
{25} Smethurst, op. cit., pp. 16 и далее.
{26} Если бы кто-нибудь сказал, что такое чисто инструментальное отношение к наблюдаемым объектам природы датируется лишь более поздним временем и не присутствовало, скажем, раньше конца восемнадцатого века, ему было бы полезно проконсультироваться с ранними выпусками «Философских трудов» Королевского Общества и узнать об экспериментах, там описанных.
{27} Hooykaas, op. cit., pp. 62–63.
{28} Позднее Шеллинг мог говорить об «альянсе» или «партнёрстве» Бога и человека. См. K. Löwith, “Gott, Mensch und Welt in der Metaphysik von Descartes bis Nietzsche” (Göttingen, 1967), p. 115.
{29} Здесь и далее я многим обязан работам Карла Лёвита и, в частности, книге, процитированной в предыдущей сноске.
{30} «Законы», 903c (перев. B. Jowett)
{31} “Discours de la Méthode”, 6me partie. <«Эти основные понятия показали мне, что можно достичь знаний, весьма полезных в жизни, и что вместо умозрительной философии, преподаваемой в школах, можно создать практическую, с помощью которой, зная силу и действие огня, воды, воздуха, звёзд, небес и всех прочих окружающих нас тел так же отчётливо, как мы знаем различные ремёсла наших мастеров, мы могли бы, как и они, использовать и эти силы во всех свойственных им применениях и стать, таким образом, как бы господами и владетелями природы». Р. Декарт. Рассуждение о методе, чтобы верно направлять свой разум и отыскивать истину в науках. [Сочинения в двух томах, т. 1. М.: Мысль, 1980, стр. 286 (перев. Г. Г. Слюсарева)]>.
{32}“De Sacramentis Fidei Christianae” (Migne, P.L. CIXXVI. 205 BC).
{33} Opera Omnia (Basle, 1561), 1, 121. Здесь цитируется по P. O. Kristeller, Die Philosophie des Marsilio Ficino (Frankfurt, 1972), S. 103.
{34} «Критика способности суждения», § 86 [перев. J. H. Bernard, 2nd edn., rev. (London, 1914), p. 370]. Но: «человек может быть конгечной целью творения только как моральное сущетсво». Ibid. p. 371.
{35} «Лекции по философии религии», ч. III, C, II, 2 [перев. E. B. Speirs and J. B. Sanderson (London, 1895), III, 43].
{36} См. Löwith, op. cit., pp. 15, 105 – 115.
{37} P. Lafargue. “Erinnerungen an Marx” (1934), S. 99 (цит. по: Löowith, op. cit., p. 133).
{38} S. Hampshire “Morality and Pessimism, The Leslie Stephen Lecture 1972” (Cambridge, 1972), pp. 2 и далее.
{39} G. Pico della Mirandola. “La Dignitd dell'Uomo”. Ed. F. S. Pignagnoli (Bologna, 1969), p. 76.
{40} K. Löowith. “Zur Kritik der Geschichtlichen Existenz”. Gesammelte Abhandlungen, 2. Edition, rev. (Stuttgart, etc., 1969), S. 255 ( перевод мой – РГ).
Рольф Грунер
НАУКА, ПРИРОДА И ХРИСТИАНСТВО
(Gruner R. Science, nature, and Christianity // Journal of Theological Studies, N. S., 1975, Vol. XXVI, pp. 55 – 81)
С восемнадцатого века многие люди стали представлять себе исторические взаимоотношения между наукой, с одной стороны, и религией, представленной христианской теологией, с другой стороны, как конфликтные. Они считали, что современной науке, особенно на ранних стадиях, пришлось выступать против сильной религиозной оппозиции (случай с Галилеем – яркий тому пример), и они находили это совсем не удивительным благодаря своему убеждению, что рождение науки стало частью великого возрождения сладости и света классических времён, их рациональности и интереса к миру природы. Вражду ориентированной на потустороннее и авторитарной религии с её мрачной озабоченностью грехом и смертью, презрением и отрицанием всего естественного, тогда можно было воспринимать как нечто само собой разумеющееся.
Сегодня мало кто со знанием дела согласится с таким мнением. Изучение истории, истории идей и истории науки не стояло на месте, и теперь кажется, что всё обстоит гораздо сложнее, чем предполагалось ранее. Одна из попыток прийти к новой, лучшей картине отношений между христианством и наукой {1} представляет особый интерес, поскольку в некотором отношении она прямо противоположна традиционному подходу. Ибо в этом случае утверждается что наука на самом деле совсем не находится в какой-либо оппозиции к христианской вере, а является её следствием или результатом, тогда как представления, преобладавшие в классической античности, были помехой, препятствием, которое нужно было преодолеть, прежде чем наука могла появиться в том виде, как мы её знаем.
Сторонники этой точки зрения (которые имели предшественников в девятнадцатом веке, и которых, за неимением лучшего названия, я буду называть «ревизионистами») очень часто, по-видимому, имеют апологетические намерения. Совсем не стремясь вытеснить и чем-то заменить религию как всеобъемлющую точку зрения и интерпретацию мира, они хотят сказать, что наука в своем возникновении сама находилась в зависимости от одной конкретной религии, и если она хочет выжить, и приносить пользу в дальнейшем, эту зависимость необходимо признать и подтвердить. Ибо это не просто вопрос прошлого. Поскольку ревизионист разделяет с большинством своих оппонентов-агностиков положительную оценку науки, он считает очень большой заслугой христианства то, что оно сделало возможной такую вещь, как наука.
Однако для апологетических целей в такой позиции есть опасности, и поскольку репутация науки в последнее время несколько запятналась, многие богословы, возможно, сочтут для будущего повышения престижа своей религии более перспективным утверждать, что она требует уважения человека к его так называемой окружающей среде, а не манипулирования и контроля над ней. Я, однако, говорю здесь не об апологетическом аспекте вопроса, а о том, имеет ли он какие-либо достоинства как историко-философский тезис. Поэтому необходимо рассмотреть его более подробно {2}.
I.
Почему современная наука рассматривается здесь как «дитя христианской веры» (по словам одного автора) {3}? Аргументация начинается с тезиса о классическом взгляде на Бога и природу. Для греков природа (или мир) была вечной и несотворённой, не имеющей ни начала, ни конца во времени. Боги народной религии были олицетворением сил природы, тогда как Бог философов был либо генератором, либо изобретателем. Как генератор он породил мир, как природный отец; как изобретатель он создал его, как ремесленник. В любом случае он зависит от ранее существовавшей материи и формы и не творил в иудейско-христианском смысле, то есть ex nihilo. Короче говоря, он не автономен, а зависим, и то, от чего он зависит, в конечном счете, – это судьба или необходимость.
У этих концепций есть несколько следствий, и два из них особенно важны. Во-первых, согласно греческим предположениям, нельзя было провести резкое различие между Богом и природой. Другими словами, сама природа рассматривалась как имеющая характер божественного, что также означает, что она рассматривалась как одушевленная и имеющая свои части, наделенные разумом и волей, что видно, например, из взглядов греков на небесные тела. Другим важным следствием является вера в то, что истинное знание о природе и мире может быть получено, причём только путем рассмотрения принципов, согласно которым природа была сформирована Божеством или божествами. Это проявляется, в частности, в аристотелевском различении сущности и акциденции, поскольку сущность вещи может быть познана через её определение, т. е. в процессе чистого размышления, тогда как акциденции действительно случайны («акцидентальны») и поэтому не имеют значения, поскольку познание направлено исключительно на то, что необходимо и неслучайно.
Всё это означает, что греки не могли разработать что-либо похожее на современную науку. Если природа божественна, то заниматься предприятием, которое предполагает манипулирование природой и контроль над ней, является высокомерием; и если всё, что стóит познать, можно познать посредством размышления, то нет смысла заниматься каким-либо эмпирическим исследованием. Или, скорее, если и есть какой-то смысл, то он состоит лишь в предоставлении примеров общих принципов, которые сами по себе открываются другими способами. Короче говоря, опыт не используется и не может быть использован для вывода таких принципов, для формулирования научных законов и теорий, а также для объяснения и предсказания отдельных эмпирических фактов.
Но все эти препятствия были устранены новой религией христианства, то есть именно эта религия создала предпосылки современной науки. Стержнем является иудейско-христианская концепция Бога как личного, всемогущего Существа, сотворившего мир из ничего. Это означает, что мир или природа не могут быть вечными, но должны иметь историю. Ибо только Бог не имеет ни начала, ни конца. Это также означает, что Бог и мир полностью и абсолютно отличны друг от друга. Следовательно, Бог не может быть естественным отцом мира, а мир — организмом, ибо в этом случае оба были бы одного и того же рода. И разница между Богом и миром не может напоминать разницу между ремесленником и его продуктом, артефактом. Ибо ремесленник лишь придаёт форму уже существующему материалу, применяя определенные законы и принципы, действительность которых также от него не зависит, тогда как в случае божественного творения отсутствует всё предшествующее существование и все независимые принципы, короче говоря, всё, что могло бы посягать на Его абсолютную власть и автономию. То, что мир такой, какой он есть, обусловлено исключительно Его свободной волей (и поскольку Бог является личным Существом, а не анонимной силой, термин «воля» здесь вполне уместен). Он мог бы создать мир по-другому; он мог вообще его не создавать. Для чего он создал это и почему создал именно так, мы не знаем и не можем знать. Поэтому тщетно искать конечные причины в природе. Для нас может быть только одна конечная причина – это Сам Бог. Другие причины, которые мы можем знать, — это только действующие причины, и поскольку в неживой природе они носят механический характер, механистический взгляд классической физики находился в совершенном согласии с христианской верой, более того, был даже её логическим следствием, в то время как любой взгляд на природа как организм несовместим с этой верой.
Волюнтаристская концепция христианского Бога влечет за собой, конечно, и применение эмпирических методов исследования природы. Не существует плана творения, который можно было бы обнаружить в свете разума; единственный способ узнать, что и как существует в мире, — это наблюдение и эксперимент. Вопреки распространенному мнению, христианская вера не ставит никаких препятствий на пути подобных исследований. Напротив, они не только разрешены, но и решительно требуются от верующего, как можно видеть из таких мест Писания, как Еккл 1:13, где сказано, что Бог дал человеку задачу «исследовать и испытать мудростью всё, что делается под небом». Греки — в частности, Платон и неоплатоники — впали в дуализм, согласно которому материя по своей сути плоха (это было причиной, например, того, почему демиург не мог полностью и совершенно воспроизвести идеальную модель в эмпирическом мире). Однако, по христианскому воззрению, материя, природа, мир хороши, потому что благ их Создатель. Мир, созданный добрым Богом, не может быть злым, и если Бог воплотился Сам, то плоть не может быть по своей сути плохой. Уже по этой причине обращение к Богу влечет за собой обращение к Его творению. Следовательно, интерес к миру, любопытство к нему и стремление познать его становятся религиозными обязанностями. Они сводятся к прославлению Бога в Его творениях и признанию явлений природы символами духовной благодати. Занятия наукой приобретают характер поклонения Богу.
Но озабоченность знанием природы требуется христианской верой также и в силу требования милосердия. Поскольку, согласно Быт 1:26–27, человеку дана власть над остальным творением, он имеет право осуществлять эту власть. А поскольку занятия наукой являются наиболее эффективным средством принести пользу ближнему (путем уменьшения страданий и улучшения его положения на земле в целом), у человека есть долг перед наукой, потому что у него есть долг к благотворительности. Таким образом, пáрные элементы теории и практики в научном познании, основаны на религиозной заповеди, согласно которой это познание в соответствии с известной формулой Бэкона {4} должно быть посвящено «славе Творца и облегчению бремени человека».
Отсюда следует лёгкий переход к следующему пункту: добродетели, необходимые для успешного достижения научного познания, являются христианскими добродетелями. Само собой разумеется, что человек науки должен быть смелым, терпеливым, настойчивым, владеющим собой и обладающим чувством призвания. Столь же очевидно, что он должен уважать истину и ставить интеллектуальную честность выше собственных интересов. Но поскольку наука служит человечеству и поскольку она сама является предприятием исключительно социального и кооперативного характера, требующим свободы выражения и обмена идеями, необходимо также уважение к личности, особенно в той мере, в какой оно выражается в терпимости, чувстве братства и любви к свободе. И последнее, но не менее важное: христианская добродетель смирения, которая здесь принимает форму добровольного уважения к эмпирическим фактам и признания того, что ни один результат не является окончательным. Здесь особенно очевидна разница между ученым-исследователем и типичным мыслителем древней Греции. Ибо последний был человеком, который считал свой ум достаточно мощным, чтобы приобретать знания без смиренного подчинения деталям реальности, знания, которые он считал законченными и окончательными, не способными и не нуждающимися в дальнейшем совершенствовании. Этот последний пункт имеет особое значение, поскольку он показывает, насколько современный взгляд на науку как на вечный прогрессивный поиск связан с христианской идеей о том, что полная модель христианской жизни невозможна, потому что дух деятельной любви безграничен и Бог возложил на человека нравственное совершенствование как бесконечную задачу.
Наконец (и на этом я закончу данный обзор ревизионистской концепции) очевидно, что никакая наука не была бы возможна без предположений о том, что в природе существуют порядок и регулярность и что человеческий разум способен их распознавать. Но эти предположения связаны с религиозными идеями. Действительно, существование порядка логически не влечёт за собой существование Бога — аргумент о замысле недействителен. Но вера в порядок не имеет особого смысла, если на предшествующих и независимых основаниях человек не верит также в разумное Божество, создавшее этот порядок. Хотя было бы преувеличением сказать, что приверженность христианской вере является необходимой предпосылкой для занятий наукой, нет никаких сомнений в том, что такая приверженность даёт огромный стимул и воодушевление, о чём также свидетельствует большая религиозность почти всех основателей и пионеров современной науки. И то, что справедливо для веры в порядок, mutatis mutandis (с соответствующими изменениями) справедливо и для веры в способность человека познать его.
II
Очевидно, что защитник взглядов, подобных тем, которые я здесь изложил, немедленно сталкивается с двумя трудностями. Первая может быть обозначена вопросом: почему, если христианство было столь благоприятным для возникновения науки, потребовалось так много времени, прежде чем наука фактически возникла? Ответ на этот вопрос, по сути, заключается в том, что на протяжении столетий эта религия была испорчена языческими элементами. Платоническое/неоплатоническое влияние было ответственно за недоверие к телу и потусторонний характер веры в целом – черту, которая препятствовала изучению природы и находится в противоречии с первоначальным христианством. А аристотелизм Средневековья представлял собой дальнейшее извращение, потому что он был попыткой придать этой религии чуждую и неприемлемую философскую форму, особенно в отношении конечных причин и телеологических объяснений, которые, по сути, вновь ввели что-то вроде греческого взгляда на природу как на одушевленную и божественную. На самом деле только протестантизм, и особенно пуританство, очистили христианскую веру от языческих элементов и тем самым устранили препятствия, которые стояли на пути науки. (В этом месте можно вспомнить, что большинство ревизионистов сами являются протестантами.)
Вторая трудность, которую необходимо преодолеть, заключается в том, что современная наука, начиная с восемнадцатого века, если не раньше, не следовала религиозным линиям и не развивалась в том духе, в котором, по мнению ревизиониста, она должна была развиваться. Независимо от того, придерживается ли кто-либо или не придерживается мнения, что наука несёт большую ответственность за устойчивый процесс секуляризации и устойчивое уменьшение роли религии в жизни современного человека, не может быть сомнений в том, что она использовалась агностиками и атеистами как очень мощная и эффективная палка, которой можно было бить религиозную веру. Даже если кто-то хочет говорить здесь о гигантском непонимании либо науки, либо религии, либо и того, и другого, всё равно нужно объяснить, как оно могло возникнуть и так широко распространиться. Поэтому ревизионисты должны в той или иной форме сказать, что где-то что-то пошло не так, но что это развитие не было необходимым, то есть не было ни присущим современной науке с самого начала, ни одним из ее логических результатов. Они разнятся, однако, во взглядах на то, что именно пошло не так и когда. В то время как некоторые {5} указывают обвиняющим перстом на относительно позднюю идею о том, что человек также может и должен стать объектом науки, для других {6} решающее событие произошло несколько раньше, когда применение детерминистской гипотезы было распространено с неживой природы (где она уместна) на живую природу (где она неуместна). И по крайней мере один автор {7} находит проблему в дихотомиях, которые возникли уже в самые ранние дни современной науки, таких как дуализм веры и разума у Бэкона, первичных и вторичных качеств у Галилея, ментальных и материальных субстанций у Декарта, – все эти взгляды считаются разрушительными для высокой концепции науки как божественного поклонения.
Теперь должно быть совершенно ясно, почему необходимы такие рассуждения, то есть, почему ревизионист должен отрицать, что безразличие (если не враждебность) к религии, проявленное или поощряемое современной наукой в её более поздних фазах, было неизбежным. Если есть прямой путь, естественная связь между христианской верой и наукой и между наукой и нерелигиозным отношением и образом жизни, то эта вера несла в себе с самого начала семена своего собственного разрушения. И этого ни один истинный христианин не может признать. Поэтому для него либо нет такой связи между его религией и наукой, либо развитие науки в сторону религиозного безразличия не было неизбежным. Поскольку это всего лишь тезис ревизиониста о том, что существует внутренняя связь между христианством и наукой, он должен выбрать второй вариант, и это равносильно отрицанию того, что, учитывая прогресс науки за последние триста лет или около того, сопутствующий процесс секуляризации был автоматическим. Короче говоря, ревизионист должен верить, что можно иметь цивилизацию, которая одновременно является и интенсивно научной, и интенсивно религиозной.
В конце концов, однако, ревизионизм, возможно, лучше всего рассматривать как часть более общего стремления, которое было главной заботой теологов на протяжении по крайней мере столетия, стремления показать, что нет и не может быть никакого реального противоречия, несовместимости или несоответствия между наукой, с одной стороны, и религией, с другой, – взгляда, к которому ревизионист просто добавляет свой тезис о том, что, напротив, христианская вера даже благоприятствует науке и фактически была ее главным прародителем. Все те, кто сделал агностические или атеистические выводы из научного знания, таким образом, обвиняются в ошибке; вся философия или Weltanschauung (мировоззрение) натурализма считается основанной на недостаточном знании или ошибочном рассуждении.
III
Ревизионистская концепция несостоятельна, и некоторые обоснования этого будут приведены ниже. Несомненно, основные факты не оспариваются: древние не развивали науку в современном смысле, в то время как после полутора тысяч лет христианства эта наука действительно появилась. Предполагая, что мы можем исключить внешние (например, восточные) влияния, следует, что в этом интервале времени должно было быть произведено что-то, чего раньше не хватало. Но сказать это — значит сказать очень мало, и ревизионистский тезис, конечно, идет гораздо дальше. Поэтому его нельзя обвинить в тривиальности.
Однако я не предполагаю подвергать его систематической критике по пунктам. Здесь это невозможно, а во многих случаях и не нужно, потому что слабости слишком бросаются в глаза. Например, совершенно очевидно, что добродетели, перечисленные как необходимые для занятия наукой, не являются ни специфически христианскими по характеру, ни специфически отноящимися к человеку науки. Для того чтобы успешно заниматься научными исследованиями, нет необходимости в особой любви к человечеству или вере в братство людей; а что касается смиренного покорения опыту, то оно необходимо каждому: если труба, после того как её починили, всё ещё течёт, она течёт; и это факт, который даже водопроводчик должен признать, если он хочет остаться в бизнесе. Идея о том, что современная наука способствует таким вещам, как разумность и терпимость, а также социальным или политическим институтам, которые якобы основаны на них, разделяется многими теистами, атеистами и агностиками, и религия не имеет к этому особого отношения.
Но вникать в пункты такого рода также малопродуктивно, потому что они не являются существенными для ревизионистской концепции: их можно допустить, не допуская самого тезиса. Критика должна касаться более обширных областей, и в частности тех, которые имеют отношение к характеру греческой мысли, христианской религии и современной науки соответственно. В каждом случае мы должны спросить, является ли картина, которая нам здесь представлена, достаточно справедливой и правдивой, и действительно ли отношения между тремя феноменами носят предполагаемый характер.
Теперь, самая поразительная черта при рассмотрении ревизионистского тезиса в целом – это идея христианства, которая здесь подразумевается. Ибо утверждается ни более, ни менее как то, что в течение первых полутора тысяч лет своего существования эта религия была извращена язычеством: в самом начале она была в чистом и первозданном состоянии, но почти сразу же она попала под чуждое влияние и началось искажение и разложение. Возможно, это не более чем современная версия традиционной защиты протестантской Реформации как возвращения к истокам и истинному духу, каким он был в ранние времена. Это поднимает вопрос о том, как решить, что составляет этот изначальный дух, и протестантский ответ всегда заключался в том, что данное решение должно быть основано на тексте Библии, – ответ, который имеет смысл только при условии, что этот текст говорит одним голосом и что из него можно извлечь истинное и недвусмысленное понимание.
Справедливость этого предположения должна оставаться проблематичной, но даже если бы его можно было считать доказанным, не подлежит сомнению, что в ревизионистской концепции это понимание очень курьёзно. Ибо эта концепция может строиться только при игнорировании по крайней мере одного из великих христианских догматов — догмата о грехопадении и первородном грехе. Даже если правда, что хороший Бог может создать только хороший мир (и в Быт 1:31–33 мы действительно можем прочитать, что Бог увидел, что созданное им хорошо), то есть ещё другой вопрос: оставалось ли хорошим то, что было создано хорошим? И согласно христианскому учению это было не так. Является ли это, в конце концов, последовательной позицией — считать понятным зарождение зла в добром мире, созданном добрым Богом, – нас может не касаться. (Не обязательно также рассматривать вопрос, обязан ли тот, кто аргументирует от хорошего Бога к хорошему миру, аргументировать от бесконечно хорошего Бога к бесконечно хорошему миру.) Факт остаётся фактом: согласно этой религии зло действительно возникло и с тех пор пребывает с нами. А это означает, что после грехопадения мир больше не был «хорошим миром». Сказать, что вера в испорченный характер мира сама является искажением христианства, – это в конечном итоге всё равно, что признать искажением учение о грехопадении, а это нелепо, особенно если Платона и неоплатоников порицают за центральную догму Ветхого Завета {8}.
Видение мира падшим имеет следствия для значения, которое придаётся мирским реалиям, а значит, и познанию этих реалий, и, следовательно, познанию природы. Вероятно, это не влечёт за собой радикального contemptus mundi (презрение к миру) и крайней враждебности к этому знанию, выражения которой мы находим у столь многих христианских мыслителей прошлого (а цитаты из ранних отцов через Августина до Лютера здесь легко приходят на ум) {9}. Но это реально означает, что оно не может иметь очень высокий рейтинг на шкале вещей, которые важны для верующего. Для него, выражаясь словами доктора Джонсона, «познание внешней природы и науки, которых это познание требует или включает в себя, не являются великим или частым делом человеческого разума», и человек помещён здесь не для того, чтобы «наблюдать за ростом растений или за движением звёзд» {10}. Ревизионисты пытаются подкрепить свой тезис цитатами из Священного Писания, но это мало эффективно, потому что для каждого отрывка, где познание природы кажется разрешённым или требуется, можно найти другой отрывок там, где оно кажется запрещённым или опасным. Если в Еккл 1:13 можно прочитать, что человек должен «исследовать всё, что делается под небом», то мы также можем прочитать в Иер 31:37 что Господь отвергнет семя Израиля, «если небо может быть измерено вверху и основания земли исследованы внизу».
Но вернемся на минутку к только что упомянутому радикальному contemptus mundi и его отношению к современной науке. Чтобы заниматься последней, надо верить, что познание природы важно и желательно, а поскольку первое влечёт за собой убеждение в обратном, эти две установки не могут быть примирены друг с другом. Утверждалось {11}, однако, что contemptus mundi всё же поощряет создание современной науки, поскольку оно раз и навсегда покончило с идеей божественного характера природы и таким образом квалифицировал её как объект науки. Позже я и сам буду утверждать, что современная наука действительно зависит от идеи, согласно которой объекты природы не имеют внутренней ценности. Но характер этого, если угодно, «презрения к природе» и характер презрения к миру, обнаруживаемого в христианской литературе, – это не одно и то же. Ибо последнее – это не столько презрение к природе — к рекам и горам, скалам и деревьям, птицам и зверям — сколько презрение к «мирским предметам», то есть к богатству, власти, славе, телесному здоровью, чувственным удовольствиям и т. д., а также к знанию, поскольку оно не имеет религиозного характера. Но это не означает, что объекты такого знания должны быть включены в презрение. Осуждающий предприятие классического философа, который хочет установить природу справедливости, не осуждает справедливость. Видеть в деятельности астронома гордое и тщеславное предприятие не значит видеть в звездах и планетах объекты, не имеющие ценности. (На самом деле, если Бог создал их, они, по-видимому, должны иметь некоторую ценность.) Выражаясь несколько утрировано, можно сказать, что contemptus mundi влечёт за собой презрение к знаниям, но не к объектам природы, тогда как деятельность современной науки влечёт за собой высокое почитание познания природы и презрение к её объектам. Они могут, следовательно, рассматриваться как противоположности, и нет никакого пути, ведущего от одного к другому.
Но если догмат о грехопадении всегда был препятствием для христианского защитника науки, то это лишь часть аргументации такого рода. Современная наука с самого начала рассматривалась как человеческое предприятие по улучшению и, возможно, даже устранению человеческих страданий, то есть последствий грехопадения, тогда как по христианскому учению не может быть и речи о том, что эти последствия можно преодолеть светскими средствами. Фрэнсису Бэкону уже приходилось преодолевать некоторые трудности, чтобы примирить грехопадение человека (и природы тоже) с ожидаемым возрождением человека новой наукой. Падение, заявил он, произошло не из-за желания человека познать природу, а лишь из-за желания познать добро и зло и таким образом стать подобным Божеству. Однако произошло второе Падение, вызванное его попыткой «приложить печать своего собственного образа к творениям и делам Божиим, вместо того, чтобы внимательно изучить и узнать в них печать Самого Творца» {12}. Другими словами, второе Падение произошло из-за гордого стремления (особенно аристотелевцев) познать природу посредством силой врожденного разума, не занимаясь наблюдением и экспериментом. Но его последствия (а это означает по большому счету потерю человеком его господства над природой) может быть преодолено новой наукой, тогда как последствия первого Падения можно преодолеть только религия. Из подобных взглядов можно увидеть, до какой степени ревизионистский подход действительно есть подход Бэкона, подчищенный для двадцатого века, особенно в том, что касается ассоциации науки через эмпиризм со смирением, а классической и схоластической философии через рационализм – с высокомерием и гордостью.
IV
Я сказал или подразумевал, что негативное отношение раннего христианства к светскому знанию зависело от негативного отношения к миру, которое, в свою очередь, возникло из христианской догмы о грехопадении. Может казаться, что это представляет собой абсолютный разрыв с классической традицией, и в во многих отношениях это действительно так. С другой стороны – и в не меньшей степени – это не мешало, а, возможно, даже поощряло преемственность в других отношениях, и я имею в виду, в частности, различие между действием и созерцанием, причём последнему придавалось большее значение.
Латинские слова “contemplatio” и “contemplari” имели свои более ранние аналоги в греческом – “theoria” и “theorein”. В обоих случаях обозначаемое было формой знания и образом жизни одновременно, так что созерцательное знание можно противопоставить практическому знанию, а размышление – действию. Хотя эта традиция восходит к досократикам {13}, её наиболее ясное выражение в классические времена появляется позже. Созерцание – это непринужденное, безмятежное вѝдение истины, не имеющее никакой цели вне себя. Таким образом, оно абсолютно не подвержено любым соображениям практики или полезности. Это влечёт за собой не только отсутствие каких-либо попыток изменить существующее положение вещей, но даже простое желание, чтобы вещи были другими, чем они есть. В то же время оно таково, что сохраняется различие между созерцающим субъектом и созерцаемым объектом. Они остаются раздельными и находящимися на расстоянии друг от друга и не сливаются в мистический союз.
Созерцательная жизнь, по Аристотелю, превосходит все другие, даже политическую жизнь, потому что она одна составляет счастье. Все остальные поступки «лишают досуга и ставят перед собою определённые цели, а не избираются во имя них самих», тогда как созерцание (и только оно) самодостаточно, неторопливо и неутомимо. Такая жизнь, однако, не является истинно человеческой, и человек может жить таким образом только потому и поскольку в нём присутствует нечто божественное {14}.
Если мы рассмотрим христианское мироощущение, мы обнаружим, что в течение действительно очень долгого времени ядро классической концепции сохранялось, несмотря на тот факт, что объектом созерцания теперь стал христианский Бог и что созерцательная жизнь обычно ассоциировалась с монашеской жизнью. Важным моментом является то, что, хотя активная жизнь была задумана как самая важная часть, заключающая в себе осуществление христианской благотворительности, пальма первенства всё же была отдана, как и в классические времена, созерцанию. Библейское оправдание этого предпочтения, которое можно встретить у Оригена, Августина, Григория Великого и других, было представлено эпизодом с сёстрами Марфой и Марией в Евангелии от Луки (10:38–42): когда Марфа пожаловалась Иисусу, что Мария просто сидела и слушала у ног Господа, вместо того, чтобы помогать сестре в служении, Он ответил: «Марфа! Марфа! Ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно; Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у неё».
Под этим подразумевалось, что хотя активная жизнь на благо другим хороша, созерцательная жизнь вѝдения Господа лучше. Ибо, как сказал Августин, то, что выбирает Марфа, проходит: она служит голодным, жаждущим, бездомным: но все это уходит, тогда как часть Марии непреходяща {15}. Или, короче, действие, даже благотворительное действие, является лишь средством для достижения цели, тогда как созерцание является целью само по себе. Конечно, христианский долг быть милосердным не отрицался Августином или кем-то ещё. Но ему не было дано того полного масштаба, который ему склонны приписывать современные богословы. Быть благотворительным тогда значило заботиться об основных потребностях тех, кого случайно встречаешь, и Августин добавил к этому, что не следует также отказываться от государственной должности, когда возникнет необходимость. Но он, как и другие, подчеркивал, что это бремя, наложенное на нас, и к нему не следует стремиться и наслаждаться им самим {16}.
Со временем произошли изменения в понимании vita activa и связь с vita contemplativa также стала воспринимается несколько иначе. Но последняя по-прежнему считалась лучшей из двух. Взглянув хотя бы бегло на Фому Аквинского, мы находим, что для него не только активная жизнь должна проистекать из созерцания, чтобы иметь ценность, но активная жизнь есть, собственно говоря, подготовка к созерцательной жизни: vita activа est dispositio ad contemplativam {17}. Ибо, хотя первое приносит с собой свой собственный род счастья, оно по самой своей природе не может быть местом последнего пристанища и поэтому находит свое осуществление только в последнем. Другими словами, Фома соглашается с Аристотелем, что последнее и высшее счастье может состоять лишь в созерцание: ultima hominis felicitas (est) in contemplatione veritatis {18}.
Только с гуманизмом эпохи Возрождения превосходство созерцательной жизни стало сомнительным. Те, кто был намерен возвратиться к классическим источникам, уже не были уверены в этом классическом идеале и стали задумываться над тем, действительно ли не следует в конце концов отдавать предпочтение vita activa (а это для многих означало теперь гражданскую, политическую жизнь).
Однако когда мы переходим к Фрэнсису Бэкону, главному трубачу современной науки, как его называли, то тут едва ли существует ещё какой-то вопрос: созерцание отсутствует, а действие присутствует. И следует ожидать, что человеку, который видел в знании силу, не было бы смысла в созерцать. Приобретение и применение силы, которой является знание, ассоциировалось у Бэкона с христианской благотворительностью. И благотворительность для него не означала больше относительно скромную обязанность помогать нуждающимся, которых мы встречаем в повседневной жизни, она означала не что иное, как улучшение благополучия человечества. Поскольку этого можно достичь только знанием основанном на действии (т. е. на эксперименте) и полезном для действия (т.е. для технологических и других приложений), неудивительно, что созерцательная жизнь и познание приобрели для Бэкона характер эгоистичных идеалов. Общее благо, считал он, «предопределяет решение вопроса о том, является ли созерцательная жизнь, предпочтительнее деятельной, и опровергает мнение Аристотеля. Дело в том, что все доводы, которые он приводит в защиту созерцательной жизни, имеют в виду только личное благо и лишь наслаждение или достоинство самого индивидуума» {19}. Как видно из этого отрывка, Бэкон уже не осознавал проблемы, которая занимала столь многих его предшественников, проблемы целей в отличие от средств: если человек милосердия достиг того, чего намеревался достичь: голодных накормят, нагих оденут, бездомных приютят, больных излечат — что ему тогда делать, для чего ему тогда жить?
Нет нужды доказывать, что позиция Бэкона должна была стать преобладающей в современном мире. Марксист, либерал, позитивист, экзистенциалист – все они разделяют отвращение к идеалу, который в домодернистские времена никогда не вызывал серьезных споров. Бэконовское обвинение в эгоизме эхом отдавалось на протяжении трёх столетий {20}, и, как и следовало ожидать, его можно также найти, явно или неявно, в ревизионизме, когда, например, «отношение философской отстранённости и отчуждённого интеллектуального превосходства к практической пользе» противопоставляется «христианскому долгу “заботиться о” физическом благополучии и улучшении своих собратьев» {21} или когда «идеальный человек мудрейшего из древних» характеризуется как «снобистский педант, с которым нам не хотелось бы встречаться сегодня» {22}.
В этом отношении ревизионистская позиция, безусловно, последовательна, поскольку само собой разумеется, что идеал созерцательного познания не может иметь места в современной науке. Её цель и характер другие, и то, что в науке теперь называется «теорией», не имеет ничего общего с theoria или contemplatio. Следовательно, если кто-то хочет представить науку как детище христианства, нужно либо вообще игнорировать созерцание, либо отрицать что оно составляет подлинную часть христианской традиции. По определению, если бы это было так, то тогда в христианстве не было бы места для созерцания или было бы, но очень незначительное, а всё важное пространство было бы заполнено действием, то есть благотворительностью. Но такая позиция не может быть обоснованной хотя бы потому, что эта религия, среди прочего, является историческим феноменом, и мы в двадцатом веке не имеем права выступать в роли судей по вопросу о том, что означает «христианство», не принимая во внимание то, чтό в течение большей части его существования христиане считали таковым. Ревизионистский тезис должен быть отвергнут, если и ни по какой-нибудь другой причине, то потому, что он отрицает, хотя бы косвенно, что эта религия придаёт очень высокое и, возможно, высшее значение созерцательному знанию по сравнению с любым знанием, которое можно назвать научным.
V
Ревизионисты, подобно Бэкону, склонны связывать познание с благотворительностью и, таким образом, с активной жизнью (и, следовательно, должны выступить против созерцания). Эта связь осуществляется в предположении, что результаты научного познания могут быть использованы на службе человеческого благополучия — идея, которая обычно выражается на языке власти. Природа впервые вынуждена раскрыть свои тайны человеку (когда, говоря языком Бэкона, она, «поставлена перед вопросом» экспериментатора), и затем вынуждена вести себя в соответствии с желаниями человека, то есть не причинять ему вреда и облегчать его жизнь. В классические времена такое предприятие было бы расценено как нечестивое и, следовательно, как опасное и даже сравнительно простые мероприятия, такие как запуск корабля или построение дома, должны были быть окружены религиозными церемониями, чтобы исключить или уменьшить эту опасность.
Когда мы спрашиваем, почему изменилась эта позиция, нам дают ответ, что согласно христианской концепции Бога-Творца природа больше не воспринимается как священная. Однако одного этого недостаточно, чтобы установить обоснование для безоговорочного приобретения и осуществления власти над природой. Ведь попытка одной вещи, сотворённой Богом, обрести власть над всеми другими вещами, сотворёнными Богом, также может рассматриваться как нечестивая и самонадеянная. Ибо нужно предполагать, что Бог сотворил все вещи в их собственных правах и ради их собственных целей, и что если бы Он намеревался предоставить одному доминирование над остальными, он бы предоставил это доминирование с самого начала.
Но это, скажут, именно то, что сделал Бог; когда Он создал человека, Он даровал ему именно такое исключительное положение. То, что составляет этот ответ, сводится к признанию того, что небожественность природы на самом деле не является решающим моментом. Решающее значение имеет особый статус человека в природе, и ревизионисты, подобные Бэкону и многим другим, бывшим до них, стараются, как правило, установить этот особый статус, ссылаясь на Священное Писание, точнее, на две идеи, которые, хотя и тесно связаны, но всё же разные. Первая из них заключается в том, что человек, и только человек, был создан по образу Божию, а вторая – что человеку дана власть над остальным творением. Ключевой для обеих идей отрывок – это, конечно, Быт 1:27–28, который (в Пересмотренной Версии) читается следующим образом:
И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле.
Поскольку я не собираюсь углубляться в библейскую экзегезу, я ограничусь некоторыми простыми размышлениями общего характера, начиная с понятия владычества.
Представляется совершенно неправдоподобным, что смысл этого термина, или, скорее, оригинала на иврите мог быть таким, чтобы отражать отношение к природе и обращение с природой, характерное для современной науки. «Владычество» — это политический термин, и существуют исторические и другие причины, позволяющие предположить, что этот предмет следует рассматривать по аналогии с феноменом великодушного короля или правителя. Одно из различий (и, возможно, главное) между хорошим и плохим королём состоит в том, что первый осуществляет своё правление не в своих собственных интересах (или в своих интересах, но не в первую очередь), а в интересах своих подданных, тогда как плохой король — эгоистичный правитель. Это различие может быть выражено в терминах средств и целей или инструментальной и внутренней ценности. В худшем случае правитель относится к своим подданным просто как к средству для достижения своих целей, удовлетворения своих собственных желаний (которые направлены, конечно, не только на его материальное благополучие, но и на такие гораздо менее осязаемые вещи, как, например, его слава или прославление). Другими словами, он ведет себя так, как будто те, кем он управляет, не имеют ценности, отличной от того, чтобы быть для него полезным инструментом, и если его поведение основано на каком-либо убеждении вообще, то это убеждение в том, что именно он – тот, кто важен, кто имеет значение в мире, у кого есть внутреннюю ценность. С другой стороны, хороший король не станет отрицать такую ценность своих подданных и, как следствие, возьмёт на себя ответственность за них, даже если в качестве короля он имеет больше прав и привилегий и может использовать своих подданных как средство для достижения своих целей, поскольку эти цели связаны с этими правами и привилегиями.
Если принять эту аналогию, то станет очевидным, в каком смысле человеком должен быть принят дар власти над природой. Хороший и доброжелательный Бог не хотел, чтобы человек был эгоистичным правителем. Человек может использовать своих друзей-тварей для своих целей в той степени, в которой эти цели связаны с его исключительным статусом, но не более того. Как человек он обязан Богу, себе и своим подданным сохранять определённые стандарты и достоинство своего положения (как король обязан своему статусу короля жить и вести себя не как крестьянин), и это вызывает в известной степени необходимость использования других творений для своего собственных целуй. Следовательно, он имеет право возделывать почву, одомашнивать животных, убивать их ради еды, валить деревья и разрабатывать камни для строительства дома, добывать металлы для изготовления инструментов и другие подобные вещи. Без них его статус человека не мог бы быть поддержан.
Вот вам и интерпретация библейского утверждения о человеческом владычестве. Можно представить себе ответ многих из тех, кого я назвал ревизионистами. Они скажут, что именно это они и имели в виду, добавив лишь, что современная наука есть не что иное, как расширение и дальнейшее развитие оправданных действий, о которых я упомянул, или, скорее, знания на котором они основаны, и что критика в отношении эгоизма, на которую я ссылался, конечно, приложима к современной, научной версии господства, как она применялась к старой. Но такой ответ не подходит. Он вызван желанием и сохранить свой пирог, и съесть его, и в его основе лежит ошибочная концепция науки. Позвольте мне объяснить, почему.
Как и следовало ожидать, большинство ревизионистов уделяет большое внимание требованию, чтобы наука развивалась в религиозном духе. Они опасаются, что в противном случае ею могут (и, возможно, будут) злоупотреблять, и здесь они снова лишь следуют за своим предшественником Бэконом. Ведь Бэкон уже рассматривал возможность того, что новая наука, которую он пропагандировал, может «открыть такой фонтан, что нелегко будет понять, куда его струи и потоки будут распространяться и падать» {23}. Таким образом, он выразил надежду: «Пользование же <властью над природой> будет направляться разумным суждением и здравой религией» {24}. На самом деле это есть признание того, что внутри науки нет гарантий, которые предотвратят злоупотребления, и что религию (и через религиозную мораль) необходимо вызвать извне, чтобы сделать злоупотребления невозможными. И, по большому счету, это и сегодня позиция ревизионистов.
Но мы должны задаться вопросом: в каком отношении злоупотреблять и в чью пользу? Когда кто-то читает соответствующую литературу, например, Бэкона или его современных последователей, не остаётся сомнений в том, что авторы имеют в виду именно самого человека. То есть они опасаются, что злоупотребления наукой могут причинить ущерб человеку, а не природе (вернее, ущерб природе, но лишь постольку, поскольку ущерб человека является следствием). Другими словами, наукой следует заниматься в религиозном духе, чтобы мы не получили такие вещи, как Хиросима, Вьетнам, пустынные ландшафты и отравленные реки, а причина, по которой нам не следует их получать, – в том, что они пагубно влияют на человека и его счастье. Ревизионист здесь, конечно, опять заодно со своим временем: все разговоры о «заботе об окружающей среде», о «социальной ответственности науки» и тому подобном, в конечном итоге ориентированы на человека, а не на природу. Если ещё раз использовать старую аналогию, это похоже на случай с плохим королем, который переусердствовал с эксплуатацией своих подданных и обнаружил, что это отражается на нём лично. Поэтому ему рекомендуется изменить свои пути не в интересах своих подданных, а в своих собственных интересах. Подданные остаются теми, кем они всегда были, – всего лишь средствами или инструментами.
Однако я должен признать, что некоторые ревизионисты идут дальше этого гуманизма и говорят о любви человека к природе, о его детском удивлении перед своими собратьями по творению и о сакраментальном взгляде на чувственный мир. Если человек любит Бога, рассуждают они, он должен любить и то, что создано Им {25}. Но хотя они, может быть, и правы в данном случае, их позиция в целом непоследовательна. Ибо защита любви к природе в конечном итоге не идёт вместе с защитой полезности, по той простой причине, что тот, кто любит в природе только то, что доставляет ему удовольствие или что, по крайней мере, не вредит ему, вообще не любит природу. По-видимому, вирус, который вызывает бешенство, самую ужасную болезнь, также является творением Божьим, и если мы любим природу, мы должны включить его в свою любовь. Среди прочего это означало бы, что, хотя мы и можем его контролировать, нам не позволено его истребить, даже если бы мы были в силах это сделать. Ибо любовь к вещи совместима с её исправлением и ограничением, но не с её истреблением. И когда Ной последовал повелению Бога и наполнил свой ковчег животными, мы не слышим, чтобы он включал только тех, которые были полезны или безвредны для человека. Хищные звери, ядовитые змеи и скорпионы, и, по-видимому, также вирусы вошли в ковчег так же, как коровы и овцы, ласково кролики и красивые павлины.
Однако если это так, то мы имеем противоречие с принципом благотворительности в его бэконовской, утилитарной версии, которой придерживаются ревизионисты. Там, где милосердие к человечеству иногда требует истребления, любовь к природе всегда требует её сохранения. Или, выражаясь в более общем плане, в одном случае творения имеют внутреннюю ценность, независимую от человека; в другом они имеют для человека лишь инструментальную ценность (конечно, не только в том, что касается физической пользы, которую он из них извлекает, но и в отношении таких вещей, как эстетическое удовольствие).
Таким образом, идея о том, что современная наука основана на двух могучих столпах или основных мотивах – любви к природе (с вытекающим из этого чудом и любопытством по этому поводу) и благотворительности по отношению к человечеству (с вытекающей из этого идеей использования знаний о природе на благо человека), несостоятельна. На самом деле, что касается науки, любовь к объектам, с которыми она имеет дело, может быть только помехой и отвлечением, и это лишь часть смысла общего утверждения о том, что наука есть и должна быть «нейтральнойй» или «свободной от ценностей», или что она признает только одну ценность — ценность истины или рационального поиска истины. Человек, который рассматривает вещи в своей лаборатории (будь то минералы, растения или животные) не в качестве инструмента для достижения своей цели решения интеллектуальных или практических проблем, а каким-либо иным способом и который — пока он работает над ними и с ними — осознает, что они имеют внутреннюю ценность и собственное достоинство, такой человек не продвинется далеко в своём исследовании, если он вообще может участвовать в каком-либо исследовании. (Какое отношение он усваивает себе, когда выходит из лаборатории, это другой вопрос. Но это не имеет отношения к тому, что я говорю.) Представлять современную науку каким-либо другим способом значит искажать её {26}.
По тем же причинам также является искажением описывать науку как просто расширение и улучшение чего-то, что всегда имело место. Согласен, в господстве над природой в том смысле, в котором я рассматриваю его здесь, нет ничего нового. Можно даже сказать, что это именно то, что создаёт человека. Но современная наука является чем-то новым, а не просто продолжением этого господства другими средствами. Человек, который запрягает вола, чтобы вспахать своё поле, и человек, который втыкает электрод в мозг кошки, чтобы расширить свои знания (какими бы полезными эти знания, возможно, ни ожидались) не могут быть помещены вместе под одним заголовком «владычество над природой». Дело не в том, что вспашка полей необходима для человеческой жизни, тогда как такая необходимость не присутствует во втором случае. И дело здесь также не в жестокости – ведь я знаю, что кошка, о которой идет речь, ничего не чувствует. Решающая разница заключается в том, что в одном случае существу приписывается исключительно инструментальное значение, тогда как в другом случае инструментальный характер является лишь частичным. Я имею в виду здесь не только и даже не главным образом тот факт, что животные когда-то имели мифологические и религиозные ассоциации (бык в хлеву Вифлеема, бык как символ плодородия и др.). Просто для крестьянина его вол — это не просто вещь, которую можно использовать для какой-то цели, а существо, имеющее свои права и интересы, даже если они должны быть отвергнуты, свои собственные добродетели и пороки, как бы свою собственную личность, и за которое, следовательно, пока оно живо, он несёт ответственность. Никакие такие права и интересы не признаются, никакая такая ответственность не принимается в случае с лабораторной кошкой, и именно поэтому две ситуации различны не только по степени, но и по сути.
VI
Я попытался показать, что библейское утверждение о владычестве человека над природой рассматривалось как обеспечивающее оправдание для предприятия современной науки, но на самом деле его следует понимать в том смысле, что предусмотрено не такое обоснование. Однако сомнительно, что попытка христианской апологии науки продвинулась бы очень далеко без другого библейского утверждения, утверждения, что человек — а имеется в виду только человек — был создан по образу Божию. Кажется, это гораздо более сильное утверждение, ибо, хотя относительно легко перейти от подобия человека Богу к его праву на владычество, не так-то легко перейти от последнего к первому, и в Бытии утверждение об образе Божьем, конечно, предшествует утверждению о владычестве.
Излишне говорить, что доктрина образа Божьего очень легко подлаживается к возвышенному взгляду на человека, на его права и возможности, особенно если уравновешивающая доктрина грехопадения забыта или преуменьшена. Говорилось {27}: «Если человек был создан по образу Божьему, то естественно можно ожидать, что он в состоянии делать по крайней мере некоторые вещи, которые делал Бог», а Бэкон (который, как и следовало ожидать, придавал большое значение концепции образа Божьего) уже рассматривал человека как что-то вроде соработника Божьего {28}. Основная идея здесь, по-видимому, заключается в том, что посредством науки человек увеличивает свое подобие Богу, потому что он получил возможность подражать Ему в Его делах в несравненно большей степени, чем всё, бывшее прежде. Правда, что человеку никогда не удастся творить ex nihilo; но — кто знает — однажды он, возможно, будет в состоянии создать жизнь, разум и, вероятно, даже материю. По крайней мере, это кажется обещанием, которое доктрина образа Божьего предоставляла и предоставляет для многих людей.
Но есть и другой аспект дела, который в данном контексте имеет большое значение, и это снова касается позиции человек по отношению к природе. Короче говоря, от представления о том, что человек создан по образу Божию, при поддержке другой идеи, что человек получил власть над природой, ведёт маленький, но роковой шаг к дальнейшей идее о том, что Бог создал природу ради человека. Аргументацию здесь, вероятно, можно грубо реконструировать следующим образом. Если Бог создал человека по Своему образу, Он создал его в чем-то похожем на Бога. Но Бог является правителем (Он, по сути, верховный правитель мира), и постольку, поскольку человек подобен Ему, человеку тоже придётся быть своего рода правителем. Но для того, чтобы быть правителем, он должен иметь что-то, чем править, а без предварительного существования и, следовательно, предшествующего творения чего-то, над чем человек может властвовать, идея (и обещание), что человек создан по образу Божию имела бы мало смысла. Но в Писании ведь сказано не только то, что человек был создан после всех других существ, но также и то, что ему была явно дана власть над ними. Поэтому само собой разумеется, что всё остальное, то есть природу, Бог создал ради человека.
Без сомнения, в качестве формального аргумента это не годится. Но на первый взгляд это достаточно правдоподобно, и это всё, что имеет значение. Ибо облик, который религия может приобрести или не приобрести, не определяется логиками. На приведённые здесь рассуждения также не сильно влияет доктрина грехопадения, и даже тот, кто признаёт всю его тяжесть и важность, может всё же сказать, что, поскольку более позднее событие не может изменить более раннее, оно не может опровергнуть утверждение о том, что природа была создана ради человека. Если он далее предположит, что природа пала вместе с человеком, он может даже правдоподобно утверждать, что первоначальное отношение сохраняется – что природа и сейчас по-прежнему существует ради человека.
Все это можно было бы расценить как чистую спекуляцию с моей стороны. Но факт остаётся фактом: идея о том, что природа существует ради человека, действительно возникла и что она возникла в рамках христианской религии. Началась она с малого, приобретала всё больший и больший импульс, в значительной степени оторвалась от религиозного контекста и, кажется, сегодня имеет статус почти самоочевидного принципа, даже если он редко выражается эксплицитно. На самом деле, вряд ли можно сомневаться, что эта идея составляет одно из главных отличий древних людей от современных, современной субъективности и самосознания от классической объективности и самобезразличия. Ибо греки {29} определенно не считали природу существующей для человека, и вряд ли здесь нужно такое эксплицитное утверждение, как в «Законах» Платона («ты создан ради целого, а не целое ради тебя») {30}, чтобы это доказать. Почему– в греческом мышлении – человек даже не занимал высшее место среди творений природы? – Потому что над ним существовали, по крайней мере, вечные и неизменные небесные тела! Как тогда всё остальное могло существовать ради него?
У евреев и христиан картина другая. Бог перемещается в центр, и этот Бог имеет особое и специальное отношение к человеку. Вопрос в том, следует ли по этой причине перемещать в центр человека вместе с Богом. В Священном Писании нет никаких утверждений о том, что Бог создал природу для человека, но, как я пытался показать, такой вывод можно было сделать без особого труда. Тем не менее, кажется, что прошло более тысячи лет, прежде чем этот вывод действительно был сделан. У Гуго Сен-Викторского в двенадцатом веке мы находим не только мнение, что Бог создал человека как possessorem et dominum mundi (формулировка, по отношению к которой декартовское “maîtres et possesseurs de la nature” пятьсот лет спустя звучит почти как перевод) {31}, но также и то, что мир имеет свою конечную причину в сотворении человека: “si enim omnia Deus fecit propter hominem, causa omnium homo est” {32}. Однако нельзя сказать, что заявление такого рода было типично для Средневековья. Были тогда живые традиции, которые препятствовали этой идее, и здесь, как и везде, дела действительно изменились только с эпохой Возрождения, когда антропоцентризм начал становиться правилом. Душа человека, заявил Фичино в 1474 году, есть центр вселенной, её связь и соединение, средний термин всех вещей {33}.
К концу XVIII века эта точка зрения, по-видимому, полностью утвердилась. сформировалась. Ведь в 1790 году Кант мог заявить, что даже «самое обычное Понимание... не может удержаться от суждения, что все различные существа, какое бы великое искусство ни было проявлено в их устройстве и как бы разнообразна ни была их целенаправленная взаимосвязьюю.., были бы напрасны, если бы не было еще и людей (разумных существ вообще). Без людей всё творение было бы пустой тратой, напрасной и беcцельной» {34}. У Гегеля ситуация не менее ясная. В своей метафизике он рассматривал природу как фазу самоотчуждения абсолютной идеи, а в своей философии религии он видел в ней «всего лишь завуалированное и несовершенное воплощение Бога», что-то, «существующее для Духа и для Человека» {35}. Однако cамый крайний случай среди немецких идеалистов, видимо, представляет Шеллинг, который толковал христианство в том смысле, что только в человеке Бог возлюбил мир, что на самом деле существует «слабость Бога к человеку». Человек, следовательно, является конечной целью вселенной, тем существом, к которому стремится всё творение, и таким образом, имеет абсолютное универсальное значение {36}.
Я выбрал эти примеры, потому что они ясны и по-прежнему демонстрируют религиозные истоки современного антропоцентрического гуманизма. Однако было бы ошибкой думать, что такое отношение присуще только нескольким немецким философам. Эти люди были по большей части метафизиками.и убежденным христианами. Таким образом, они свободно выражали своё мнение в телеологическх и религиозных терминах. Но антропоцентричность, лежащая в основе, не зависит от используемого языка и может быть обнаружена почти во всех влиятельных системах идей девятнадцатого века и далее. Для марксистов само собой разумеется, что человек и только человек имеет какое-либо значение, а природа — это всего лишь средство и материал для развития человеческих производительных сил. (Самому Марксу приписывается утверждение, что «индивидуальный дух велик и свободен лишь постольку, поскольку велико его презрение к природе» {37}.) Тот факт, что для экзистенциализма всё вращается вокруг человека и природа не играет никакой роли, уже подразумевается в его названии. Для утилитаризма в его различных формах «человекоцентричность» также не подлежит сомнению. Недавний критик очень хорошо выявил ключевой момент, о котором здесь идёт речь: ничто не имеет значения кроме состояний ума или чувств (что почти во всех случаях означает человеческие состояния); что-либо ещё из числа природных или искусственных предметов считается всего лишь инструментом для создания этих состояний; и если бы человек перестал существовать, в мире не осталось бы никаких ценностей, то есть, ничего, чему можно приписать положительную или отрицательную ценность {38}.
Мой тезис, таким образом, состоит в том, что согласно воззрениям, преобладающим в наше время, природа существует ради человека, или её можно и нужно рассматривать как существующую ради него. Но спросят: как такое возможно? Разве не является сегодня общим убеждением и разве современное сознание не сформировано в существенном отношении этой верой в то, что за последние два столетия различные науки неоспоримо показали, что человек не обладает особым статусом, но является частью природы, в частности, является, не чем иным, как высокоразвитым приматом? Как можно совместить это убеждение с идеей о том, что природа существует ради человека? Этот вопрос оправдан и указывает на один из парадоксов современного сознания, на раскол, который проходит длинный путь, чтобы объяснить беспокойство и неопределённость человека относительно его положения в современном мире и его колебания между чувством величия и ничтожества. С одной стороны, он видит себя существом, чьим желаниям природа служит или должна служить, правителем, который обладает не только способностью, но также и правом заставлять всё остальное подчиняться его воле. Но с другой стороны, он видит себя «ничем, как только» частью природы, неотрывной от других частей, и усваивает разочарованный реализм, претендуя на то, чтобы «видеть насквозь» все притворства и самообманы предыдущих эпох, на способность рассмотреть «просто» природу в том, что когда-то казалось специфически человеческим. Слова «ничего кроме» и «просто» здесь уместны, поскольку природа теперь мыслится исключительно секулярным образом; она указывает только на саму себя и ни на что больше; она не рассматривается больше как имеющая сакральное или духовное значение, поскольку рассматривать её таким образом было бы антропоморфизмом, — и это, конечно, также препятствовало бы рассмотрению природы как средства для достижения цели.
У этой парадоксальной ситуации может быть только одно следствие, а именно: попытка самоманипулирования. Человек управляет природой; человек является частью природы; следовательно, человек управляет собой, и, делая это, он становится своим собственным освободителем. Ибо тогда он полностью определяет, кем он является и кем он должен быть. Пафос самоопределения датируется примерно тем же временем, что и современная наука. В 1487 году Пико делла Мирандола сочинил речь о достоинстве человека, в которой Бог объявляет Адаму, что он не давал ему фиксированной задачи, статуса или положения, но что Адам должен сам определить все это для себя {39}. С тех пор взгляд на человека как на существо без специальной или предопределённой природы, в той или иной форме, всегда был с нами. У человека нет сущности, а есть только существование; у него нет природы, а есть только история, и эту историю он творит сам: лозунги такого рода слишком знакомы.
В конце концов они всегда приводят к активистской, волюнтаристской концепции. Если стабильный, неизменный элемент, называемый «человеческой природой», не существует, то то, что люди делают, чувствуют или думают, индивидуально или коллективно, зависит исключительно от случайных факторов — физических, биологических, социальных и остальных, это не имеет значения. Важно то, что случайные факторы изменчивы, и что (по крайней мере, в принципе) они могут быть изменены человеком. Короче говоря, человек может трансформировать или перестраивать себя по желанию; если он захочет, он может стать «новым человеком». То, что эта идея лежит в основе марксизма, очевидно. То, что эта идея также лежит в основе любого другого основного Weltanschauung (мировоззрения) нашего времени, возможно, менее очевидно, но, тем не менее, верно. Просто в марксизме это было изложено, систематизировано и универсализировано, как ни в каком другом случае.
Однако фундаментальный парадокс не устраняется идеей самоопределения. Он лишь выражается по-другому. Ибо идея, что человек определяет и, следовательно, манипулирует собой, непоследовательна и сказать, что он сам себе создатель и формовщик, в конечном итоге значит не сказать ничего вразумительного.
VII
Может показаться, что я отвлёкся от своей первоначальной темы – критики взгляда на отношения между современной наукой и христианской религией. Но это отступление скорее кажущееся, чем реальное. Ибо вера в то, что природа существует ради человека, логически связана с верой в то, что объекты природы не имеют внутренней ценности, а только инструментальную, и, как я уже указывал ранее, это вера, которая присуща и существенна для современной науки. Поскольку существует чёткая линия развития, которая связывает христианское учение об imago Dei с этим инструментальным и антропоцентрическим взглядом на природу, постольку существует также историческая связь между христианством и наукой, в частности, потому что рассматриваемое учение принадлежит к самой сути христианской веры.
Но если это моя точка зрения, разве это не равносильно ограниченному одобрению ревизионизма? Ибо, отвергнув тезис о том, что библейское утверждение о владычестве человека может быть справедливо использовано в качестве религиозного оправдания предприятия современной науки, разве не показал я, что из-за другого такого утверждения — «человек был создан по образу Божьему» — такое оправдание все-таки возможно, даже если я не разделяю ревизионистского взгляда, что оно благоприятно отражается на его религии? Короче говоря, разве я не изменил просто одобрение ревизионистов на неодобрение и не выступил с представлением, по сути, не отличающимся от представления современного автора, по мнению кторого «тот факт, что современный освобождённый человек посредством своей научной технологии теперь делает всё, что он может сделать, и не подражает природе, а побеждает её, всё ещё имеет свою последнюю и глубочайшую основу в модели того Бога, чья творческая воля создала мир ради человека» {40}?
Мой ответ на эти вопросы отрицательный, и я должен лучше объяснить, почему это так. Здесь задействованы два момента, и первый из них заключается в следующем. Если, по аналогии с традиционной исторической периодизацией, мы говорим о развитии от классического мировоззрения к христианскому и от христианского к современному (это развитие, если я прав, можно также охарактеризовать как движение от космоцентрической через теоцентрическую к антропоцентрической точке зрения), ревизионист считает второе почти идентичным третьему. По крайней мере, он считает, что христианское и современное сознание имеют гораздо больше, и гораздо более существенных общих моментов, чем классическое и христианское. Но при этом упускается из виду несколько важных факторов, например, фактор созерцания в противовес действию, о котором я говорил ранее. Однако при этом также упускается из виду самый фундаментальный момент из всех, а именно, что классическая и христианская позиция были обе религиозными, тогда как современная - нет. Для древних и средневековых людей даже относительно простой объект, такой как мост или поле пшеницы, и относительно простая деятельность, такая как строительство моста или засевание поля, имели религиозное значение. Они не имеют такого значения сегодня, и что касается человеческого сознания, то это разница такой величины, что все остальные вещи становятся относительно неважными.
Мой второй момент более сложен. Здесь также под вопросом находится правильная концепция исторического развития. Я не верю, что можно приписывать ответственность, и, следовательно, можно хвалить или обвинять, прошлую философию или религию за выводы, которые люди сделали из неё впоследствии. Возьмем простой пример: Гитлер и его люди очень любили восхвалять таких мыслителей, как Гегель и Ницше в качестве своих духовных предков, и противники нацистов были в равной степени склонны обвинять их по той же причине и считать их в какой-то мере ответственными за ужасные вещи, которые произошли в Германии и Европе между 1933 и 1945 годами. Но это не справедлво. Гегель, если рассматривать его одного, не был нацистом, и его идеи не были нацистскими идеями. Просто много времени спустя после его смерти некоторые люди использовали его философию как источник, из которого они брали то, что подходило для их книг, игнорируя контекст и забывая всё остальное. То, что они так поступали, не было ошибкой Гегеля или его системы. Конечно, его идеи должны быть оценены и раскритикованы, и кто-то может счесть их приемлемыми или неприемлемыми с моральной или иной точки зрения. Но если их винить или хвалить, их следует винить или хвалить по их собственному праву, независимо от вопроса, как их позже использовали другие люди – Маркс, или Гитлер, или кто-либо ещё. Гегель может отвечать только за себя.
Верить в иное — значит согласиться с тезисом о том, что история следует некоему необходимому развитию, имеет, так сказать, «внутреннюю логику», такую, что если один человек говорит «А» в одно время, то его преемники обязаны сказать «Б» в более позднее время, т. е. что одна точка зрения или одна идея неизбежно порождает из себя следующую точку зрения или следующую идею в историческом ряду. (Тот факт, что я использовал Гегеля в качестве примера, ироничен, поскольку именно он был главным пропагандистом точки зрения, которую я сейчас критикую.) Несомненно, есть связи между событиями, идеями, положениями дел в истории, но они не такого рода. Если бы не было битвы при Ватерлоо, то, скорее всего, не было бы и битвы под Сталинградом. Это не означает, что после битвы при Ватерлоо должна была состояться и битва под Сталинградом, или что Наполеон и Веллингтон были в какой-то мере ответственны за то, что произошло в России более века спустя. Точно так же возможно и даже вероятно, что без Гегеля и гегелевской системы не было бы гитлеровской идеологии. Но опять же, из этого не следует, что при наличии первого второе было неизбежным или даже вероятным. История идей не похожа на длинную цепь умозаключений, непрерывный исторический процесс, где взгляды людей постоянно формируются как логические выводы, выведенные из взглядов их предшественников.
Соответствие этих замечаний нашей теме должно быть очевидным. Ревизионисты хотят сказать, что современную науку следует рассматривать как логический результат христианской веры. Их взгляд во многом основан на том факте, что ранние пропагандисты и практики науки, такие люди, как Бэкон, Кеплер и Ньютон, были склонны давать своей науке религиозную интерпретацию и оправдание. Но это означает лишь то, что их понимание христианства позволяло им чувствовать свои цели и действия как санкционированные им, а это было немаловажно в то время, когда религия всё ещё была силой в жизни людей. Их интерпретация была однобокой; они подчеркивали то, что соответствовало их цели, и преуменьшали то, что не соответствовало (что, я думаю, совсем не является необычной процедурой).
Я не хочу отрицать, конечно, что существует преемственность, переход от средневекового к современному менталитету, а также к современной науке. Многие концепции медленно трансформировались; акценты постепенно менялись; старые цели постепенно заменялись новыми. Поэтому утверждение, что современная наука развилась из христианства или выросла из него, подобно тому, как из него выросли многие другие вещи, не является абсолютно неверным. Но данное утверждение — это в лучшем случае очень краткое описание очень сложного исторического события, и это описание совершенно ложно, если вопрос рассматривать по биологической или логической аналогии. Наука не выросла из этой религии, как дуб вырастает из жёлудя. Ибо нет ничего естественного, предопределенного, логического в историческом развитии. Нет никакой внутренней логики, по которой, учитывая нечто, называемое «христианством», нечто другое, называемое «современной наукой», не могло бы не произойти даже в том случае, если выполняется некоторый набор «нормальных условий» (сравнимых с теплом, влажностью и т. д. в случае жёлудя). Самое большее, что можно допустить, это то, что если бы не было такой религии, то, вероятно, не было бы и современной науки, и это говорит только о чём-то очень тривиальном, особенно поскольку это можно сказать о многих других вещах помимо христианства.
Всё это означает, что нельзя разумным образом ни хвалить, ни порицать христианскую веру за науку. Пытаться сделать капитал для религии из того факта, что без неё не было бы науки, это как пытаться показать, что серьёзный несчастный случай с человеком был хорошим делом, потому что без него он не встретил бы свою будущую жену, медсестру в больнице. Можно хвалить или порицать эту религию только за то, что она есть, и предполагая, что то, чем она является, определяется её основными доктринами, можно хвалить или порицать её за них. Возможно, доктрина о том, что человек, и только человек, был сотворён по образу Божьему, должна быть подвергнута критике, но эта критика должна проводиться независимо от вопроса о том, чтó люди сделали из неё после того, как эта доктрина существовала некоторое время,. Они сформировали из неё представление о том, что природа существует или может рассматриваться как существующая ради человека, представление, которое, по мнению, по крайней мере, некоторых людей, является пагубным. Но насколько я могу судить, это представление не является частью христианства и логически не эквивалентно доктрине imago Dei, и, похоже, прошло более тысячелетия, прежде чем кто-то его выдвинул. Поэтому я не могу винить или порицать эту религию за то, что ей не принадлежит. И это, в конце концов, также означает, что я не могу винить или порицать её за науку.
РОЛЬФ ГРУНЕР
Примечания
{1} В дальнейшем я буду употреблять термин «христианский» в значении «иудео-христианский», поскольку в данном контексте нет необходимости разделять элементы Нового и Ветхого Заветов. Термином «наука» (или «современная наука») я буду называть ту науку, которая существует со времён Галилея и Декарта.
{2} Учение, которое я называю «ревизионизм», было развито в следующих книгах и статьях: J. Baillie, Natural Science and the Spiritual Life (London, 1951); E. F. Caldin, The Power and Limits of Science (London, 1949); M. B. Foster, 'The Christian Doctrine of Creation and the Rise of Modern Natural Science', Mind, 43 (1934), pp. 446-68; M. B. Foster, 'Christian Theology and Modern Science of Nature', Mind, 44 (1935), pp. 439-66, 45 (1936), pp. 1-27; M. B. Hesse, Science and the Human Imagination (London, 1954); R. Hooykaas, Religion and the Rise of Modern Science (Edinburgh and London, 1972); A. D. Lindsay, Religion, Science and Society in the Modern World (London, 1943); and A. F. Smethurst, Modern Science and Christian Belief (London, 1955). Некоторые из этих авторов лишь отчасти касаются рассматриваемой темы, и никто из них не излагает позицию ревизиониста так полно, как я сделал это здесь. Другими словами, моё описание является композиционным.
{3} Smethurst, op. cit., pp. 21, 71.
{4} Ф. Бэкон. Развитие обучения. Кн. I.
{5} Например, Lindsay, op. cit., p. 40.
{6} Например, Smethurst, op. cit., p. 63.
{7} Hesse, op. cit., p. 47 и далее.
{8} Что касается самого Платона, то в любом случае говорить о его философия как о философии, в которой природе не приписывается никакой ценности, было бы искажением: в некоторых отношениях платоновский мир форм был бы недостаточным без чувственного мира, и Бог, «недополненный» природой, не был бы хорошим и, следовательно, божественным. См. по этому поводу A. O. Lovejoy, The Great Chain of Being (1934; переиздание: New York, 1960), p. 52 и далее.
{9} Список соответсвующих цитат можно найти в L. Feuerbach, The Essence of Christianity, transl. by M. Evans (London, 1854), pp. 282 и далее. (Appendix, §5). Русский превод: Фейербах Л. А. Сущность христианства // Л. А. Фейербах. Избранные философские произведения в 2-х т. Т. 2. М.: Политическая литература, 1955, – стр. 7–305.
{10} S. Johnson, The Lives of the English Poets (London, 1832), pp. 28, 29 (в очерке о Мильтоне).
{11} Foster, “Christian Theology . . .”, Mind, 44 (1935), p. 443.
{12} “Historia Naturalis et Experimentalis”, Preface. Bacon, Works, vol. V, p. 132.
{13} Cм. Диоген Лаэртский II, 10 об Анаксагоре.
{14} «Никомахова этика», X, 7, 1177b, 1 и далее (перев. W. D. Ross) <Русский перевод Н. В. Брагинской: Аристотель. Сочинения в четырёх томах, т. 4, М.: Мысль,1984, стр. 282 и далее>.
{15} «Проповеди», CLXIX, (Migne, P.L. XXXVIII, 925). Важно, что у мистиков, вроде Майстера Экхарта, мы находим нечто, прямо противоположное этой интерпретации (и, следовательно, развенчание созерцания): когда Мария сидела у ног Господа, она должна была ещё только достигнуть того, чего Марта уже достигла; она должна была ещё учиться быть “tüchtig”, быть активной и продуктивной. –“Maria und Martha, Sermon über Lukas 10. 38”. Meister Eckehart, “Schriften” (Jena, 1934), S. 254 – 262.
{16} «О граде Божием», XIX, 19. Здесь можно вспомнить Платона, который в «Государстве» (VII, 540), писал следующее: «Когда приходит их (философов) очередь, они вынесут тяжелый труд руководства политикой и управления ради своего города, рассматривая такое действие не как нечто благородное, а как принуждение, возложенное на их» (перев. A. D. Lindsay).
{17} В: 3 Sent., dist. 35, q. 1. a. 3. sol. 3.
{18} “Summa Contra Gentiles”, III, XXXVII.
{19} “De Augmentis Scientiarum”, книга VII, гл. 1 (Bacon, Works, vol. V, p. 8) <Русский перевод Н. А. Фёдорова: Фрэнсис Бэкон. Сочинения в двух томах, т . 1, М.: Мысль, 1977, стр 390>. В одном месте, правда, Бэкон признавал, что «созерцание вещей, каковы они суть, без суеверия или обмана, заблуждения или замешательства, более достойно само по себе, чем все плоды открытий». “Novum Organum”, I, CXXIX (там же, vol. IV, p. 115) <Русский перевод С. Красильщикова: Фрэнсис Бэкон. Новый Органон, М.: РИПОЛ классик, 2018, стр. 165>. За кажущимся несоответствием этих двух отрывков скрывается следующее: возможно, идея о том, что, хотя и рассматриваемое само по себе созерцание имеет высочайшую ценность, в этом несовершенном мире долг человека – отказаться от неё в пользу менее возвышенного типа знаний.
{20} Хорошим примером является Маколи. Он обвинял античных философов (особенно римских стоиков) не только в эгоизме, но также в лицемерии и неэффективности (они не сделали людей лучше). См. его эссе о Бэконе в Edinburgh Review, July 1837 (перепечатано в изданиях его «Очерков и слов о Древнем Риме»).
{21} Smethurst, op. cit., p. 46.
{22} Caldin, op. cit., p. 165.
{23} “Valerius Terminus”, гл. I ( (Bacon, Works, vol. III, p. 218).
{24} “Novum Organum”, I, CXXIX (там же, vol. IV, p. 115) <Русский перевод С. Красильщикова: Фрэнсис Бэкон. Новый Органон, М.: РИПОЛ классик, 2018, стр. 165>.
{25} Smethurst, op. cit., pp. 16 и далее.
{26} Если бы кто-нибудь сказал, что такое чисто инструментальное отношение к наблюдаемым объектам природы датируется лишь более поздним временем и не присутствовало, скажем, раньше конца восемнадцатого века, ему было бы полезно проконсультироваться с ранними выпусками «Философских трудов» Королевского Общества и узнать об экспериментах, там описанных.
{27} Hooykaas, op. cit., pp. 62–63.
{28} Позднее Шеллинг мог говорить об «альянсе» или «партнёрстве» Бога и человека. См. K. Löwith, “Gott, Mensch und Welt in der Metaphysik von Descartes bis Nietzsche” (Göttingen, 1967), p. 115.
{29} Здесь и далее я многим обязан работам Карла Лёвита и, в частности, книге, процитированной в предыдущей сноске.
{30} «Законы», 903c (перев. B. Jowett)
{31} “Discours de la Méthode”, 6me partie. <«Эти основные понятия показали мне, что можно достичь знаний, весьма полезных в жизни, и что вместо умозрительной философии, преподаваемой в школах, можно создать практическую, с помощью которой, зная силу и действие огня, воды, воздуха, звёзд, небес и всех прочих окружающих нас тел так же отчётливо, как мы знаем различные ремёсла наших мастеров, мы могли бы, как и они, использовать и эти силы во всех свойственных им применениях и стать, таким образом, как бы господами и владетелями природы». Р. Декарт. Рассуждение о методе, чтобы верно направлять свой разум и отыскивать истину в науках. [Сочинения в двух томах, т. 1. М.: Мысль, 1980, стр. 286 (перев. Г. Г. Слюсарева)]>.
{32}“De Sacramentis Fidei Christianae” (Migne, P.L. CIXXVI. 205 BC).
{33} Opera Omnia (Basle, 1561), 1, 121. Здесь цитируется по P. O. Kristeller, Die Philosophie des Marsilio Ficino (Frankfurt, 1972), S. 103.
{34} «Критика способности суждения», § 86 [перев. J. H. Bernard, 2nd edn., rev. (London, 1914), p. 370]. Но: «человек может быть конгечной целью творения только как моральное сущетсво». Ibid. p. 371.
{35} «Лекции по философии религии», ч. III, C, II, 2 [перев. E. B. Speirs and J. B. Sanderson (London, 1895), III, 43].
{36} См. Löwith, op. cit., pp. 15, 105 – 115.
{37} P. Lafargue. “Erinnerungen an Marx” (1934), S. 99 (цит. по: Löowith, op. cit., p. 133).
{38} S. Hampshire “Morality and Pessimism, The Leslie Stephen Lecture 1972” (Cambridge, 1972), pp. 2 и далее.
{39} G. Pico della Mirandola. “La Dignitd dell'Uomo”. Ed. F. S. Pignagnoli (Bologna, 1969), p. 76.
{40} K. Löowith. “Zur Kritik der Geschichtlichen Existenz”. Gesammelte Abhandlungen, 2. Edition, rev. (Stuttgart, etc., 1969), S. 255 ( перевод мой – РГ).
воскресенье, 20 октября 2024
Сегодня, 20 октября отмечается Всемирный День Ленивца. Всех коллег от души поздравляю с этим знаменательным и радостным праздником!
понедельник, 08 января 2024
Космография и «дни» Творения в творениях святых отцов IV – V вв.
1. Введение
Шестодневом обычно называется начальный фрагмент Библии (Быт 1:1 – 2:3), содержащий повествование о сотворении мира Богом. Кажется несомненным, что Творение представлено в этом нарративе как процесс, растянутый во времени: оно продолжается в течение шести временных интервалов, называемых «днями» (отсюда и название всего фрагмента), каждый из которых имеет, к тому же, своё «утро» и свой «вечер». Ввиду важности для всей системы христианского вероучения (как по смыслу, так и по положению в корпусе библейских текстов) Шестоднев был предметом многочисленных толкований, начиная с IV в. и доныне.
В настоящее время в связи с новейшими открытиями в естествознании особую актуальность приобретает вопрос о продолжительности «дней» Творения. Священник Леонид Цыпин считал проблему продолжительности «дней» Творения даже «центральной» для всей экзегетики Шестоднева и посвятил ей специальную книгу [15]. Креационисты (см., например, [5]) ратуют за понимание «дней» Творения как «обычных» дней, что фактически означает признание краткости процесса Творения по сравнению с последующей историей человечества. Христианские эволюционисты, напротив, настаивают на том, что процесс Творения продолжался значительно дольше, чем вся человеческая история [1]. Понятно, однако, что говорить о продолжительности тех или иных временных интервалов имеет смысл лишь при условии ясного представления о возможных способах измерения этой продолжительности. С другой стороны, поскольку речь идёт о творении «видимым же всем и невидимым», т. е. всей вселенной, то «дни» Творения должны иметь «вселенский» смысл. Это «дни» всей вселенной (а не какой-то её локальной области), интервалы вселенского времени, измеряемые процессом вселенского масштаба. Таким образом, все рассуждения на данную тему оказываются тесным образом связанными с общими представлениями об устройстве мироздания в целом, теми представлениями, которые в XIX в. назывались «космографией» [16].
Мы рассмотрим здесь представления о «днях» Творения (и, соответственно, космографии) у учителей Церкви «золотого века» святоотеческой письменности (IV – V вв.), которые оставили нам специальные сочинения, посвящённые толкованию всей книги Бытия или только её начала: свв. Ефрема Сирина, Василия Великого, Григория Нисского, Иоанна Златоуста и блаженного Августина. Все они, по-видимому, считали землю находящейся в центре вселенной (до Н. Коперника, т. е. до середины XVI в., никому, вероятно, даже в голову не приходило думать иначе), однако в других аспектах их космографические взгляды могли отличаться друг от друга.
2. Святой преподобный Ефрем Сирин

Прп. Ефрем Сирин. Фреска из монастыря Дионисиат на Афоне. 1547 г.
Прп. Ефрем Сирин подробно рассматривает «дни» Товрения в своём толковании на книгу Бытия, написанном, вероятно, в 60-ых годах IV в. [10]. Последовательность и возможность измерения этих «дней» он определённо связывает с циклическим чередованием светлых и тёмных периодов, ориентируясь, по-видимому, на Быт 1:4–5, где слово «день» сначала употребляется для обозначения светлого периода, противопоставляемого тёмному («ночи»), и почти сразу за этим – для обозначения первого из шести этапов Творения: «И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днём, а тьму ночью. И был вечер, и было утро: день один». Каждый «день» Творения, согласно прп. Ефрему, начинался с «вечера», затем следовала «ночь» (тёмный интервал времени), затем – «утро» и наконец – светлый интервал, который можно, вероятно, назвать «днём» в узком смысле («И назвал Бог свет днём…»), хотя сам прп. Ефрем, кажется, нигде в таком узком смысле это слово не употребляет.
«Вечером» первого «дня» были сотворены небо и земля. Небо мыслилось прп. Ефремом, по-видимому, как место обитания Бога и ангелов, а земля – как твёрдая минеральная субстанция. О форме земли прп. Ефрем ничего не пишет, но поверхность земли он, скорее всего, представлял себе плоской. Эта плоская поверхность земли определяет «абсолютный верх» (всё то, что находится «над» ней) и «абсолютный низ» (всё, что находится «под» ней) вселенной. Небо находилось и находится «над» землёй.
«“В начале сотворил Бог небо и землю” <Быт 1:1>. Сим и ограничилось дело первоначального творения; потому что ничего иного не сотворено вместе с небом и землёю. Даже и природы, сотворённые в тот же день, тогда сотворены ещё не были. А если бы они были сотворены вместе с небом и землёю; то Моисей сказал бы о сем» [10, стр. 211].
Под «природами» здесь понимаются, видимо, античные «стихии»: вода, воздух и огонь, хотя земля, тоже обычно рассматривавшаяся как «стихия», прп. Ефремом, очевидно, к числу «природ» не относится. «Природы» были сотворены также «вечером» первого «дня», но после неба и земли: «Из сего ясно открывается, что небо и земля сотворены из ничего, потому что не были ещё сотворены ни вода, ни воздух, не получили ещё бытия ни огонь, ни свет, ни тьма: они произведены позднее неба и земли» [10, стр. 211].
«Природы» так же, как небо и земля, были сотворены из ничего, а всё последующее творение создавалось уже из этих начальных сущностей: «Так, по свидетельству Писания, небо, земля, огонь, воздух и воды сотворены из ничего, свет же, сотворённый в первый день, и всё прочее, чтó сотворено после него, сотворено из того, чтó было прежде. Ибо, когда Моисей говорит о сотворённом из ничего, употребляет слово: “сотворил”; “сотворил Бог небо и землю” <Быт 1:1>. И хотя не написано об огне, водах и воздухе, что они сотворены, однако же не сказано также, что они произведены из того, чтó было прежде. А потому и они из ничего, как небо и земля из ничего. Когда же Бог начинает творить из того, чтó уже было, тогда Писание употребляет подобное сему выражение: “сказал Бог: да будет свет” <Быт 1:3> и всё прочее. Если же сказано: “сотворил Бог рыб больших” <Быт 1:21>, то прежде сего говорится следующее: “да произведёт вода пресмыкающихся, душу живую” <Быт 1:20>. Посему, только поименованные выше пять родов тварей сотворены из ничего, всё же прочее сотворено из того уже, чтó сотворено из ничего» [10, стр. 219].
Вода, после того, как она была сотворена, покрывала «сверху» всю землю. «Сказанное: “да соберется вода… в одно место” <Быт 1:9> даёт разуметь, что земля поддерживала собою воды, а не под землёю были бездны, держась ни на чём» [10, стр. 222].
Таким образом, прп. Ефрем Сирин в отличие от свт. Иоанна Златоуста (см. ниже) полагал, что не земля покоится на воде, а наоборот – вода покоится на земле. От воды возникли облака, которые закрывали от земли свет «неба».
«Таким образом, в вечер первой ночи сотворены небо и земля, с ними сотворена и бездна <вод>, сотворены облака, и они-то распространившись над всем, произвели тёмную ночь. А после того, как сень сия покрывала всё в продолжении двенадцати часов, сотворён свет, и он рассеял тьму, распростёртую над водами» [10, стр. 213].«Сказав о сотворении неба, земли, тьмы, бездны и вод в начале первой ночи, Моисей обращается к повествованию о сотворении света в утро первого дня» [10, стр. 214].«Первоначальный свет разлит был всюду, а не заключён в одном известном месте; повсюду рассеивал он тьму, не имея движения; всё движение его состояло в появлении и исчезновении; по внезапном исчезновении его наступало владычество ночи, и с появлением оканчивалось её владычество. Так свет производил и три последующие дня» [10, стр. 215; курсив мой – СМ].
Воздух находился, по-видимому, внутри воды (т. е. тоже «над» землёй) в виде гигантского пузыря. Твердь, созданная «вечером» (т. е. в начале) второго «сдня», была границей воздуха и «верхних» вод и была, по-видимому, непрозрачной. «Поелику и над твердию воды, какие над землёю, и под твердию земля, воды и огонь; то твердь заключена в этом, как младенец в матерних недрах. <…> Твердь сотворена в вечер второй ночи, как и небо сотворено в вечер первой ночи. Вместе с происхождением тверди исчезла сень облаков, которые в продолжение ночи и дня служили вместо тверди» [10, стр. 221].
«Утром» четвёртого «дня» были созданы светила: солнце, луна и звёзды, и с этого момента всякое измерение времени должно осуществляться исключительно по ним: «Бог сказал: “да будут… для знамений”, то есть часов, “да будут… для… времён”, то есть в показание лета и зимы, “да будут… для… дней”, то есть восхождением и захождением солнца измеряются дни, “да будут … для… годов” <Быт 1:14>, потому что годы слагаются из солнечных дней и из лунных месяцев» [10, стр. 223].
«Глобальность» или абсолютность «дней» Творения при измерении их с помощью небесных светил не составляет проблемы для прп. Ефрема, поскольку, светила эти движутся по «тверди небесной», расположенной «над» землёй: нахождение солнца «над» землёй создаёт «глобальный день» (светлую часть «мировых суток»), а нахождение его «под» поверхностью земли – «глобальную ночь» (тёмную часть «суток»). Остаётся, правда, непонятным, каким образом солнце, опустившись вечером на западе «под» землю, на следующее утро оказывается снова на востоке, но прп. Ефрем никак это не поясняет.
Таким образом, прп. Ефрем Сирин, несмотря на свои космографические представления, которые могут нам сейчас показаться довольно фантастическими, ясно понимал, что по крайней мере три первых «дня» Творения не могли измеряться так же, как современные астрономические сутки (по положению солнца на небосводе), были с ними несоизмеримы. Общим для тех и других единиц измерения времени было то, что каждая из них представляла собой последовательность тёмного и светлого периодов, наступавших одновременно по всей вселенной, но определялась эта смена «ночи» и «дня» разными процессами. Три первых «дня» Творения, согласно прп. Ефрему, измерялись не положением солнца на небосводе, а пульсацией «мирового света», т. е. того света, который был создан в первый «день» Творения и существовал независимо от солнца.
3. Святитель Василий Великий

Свт. Василий Великий. Фреска из монастыря Высокие Дечаны (Сербия). XIV в.
«Беседы на Шестоднев» составлены свт. Василием Великим около 367 г. Как следует из текста этих бесед, они сначала произносились устно и лишь потом были записаны. Свт. Василий был знаком со взглядами на Творение прп. Ефрема Сирина и ссылается на них [11, стр. 33 – 34], хотя вряд ли он познакомился с этими взглядами благодаря чтению книги прп. Ефрема, которая была написана на сирийском языке и лишь много времени спустя переведена на греческий. Прп. Ефрем встречался со свт. Василием лично (вероятно, где-то во второй половине 60-ых годов IV в.), и скорее всего, свт. Василий узнал о взглядах прп. Ефрема из устной беседы с ним.
Космографические вопросы не имеют для свт. Василия принципиального значения. Так о «сущности» земли и неба, о соотношении их со стихиями (вещественными первоосновами мироздания) он говорит:
«Исследование о сущности каждого существа, или подпадающего нашему умозрению, или подлежащего нашим чувствам, введёт в толкование самые длинные и многосложные рассуждения, и при рассмотрении этой задачи нужно будет потратить более слов, нежели сколько можно сказать о каждом из прочих вопросов. Сверх того, нимало не послужит к назиданию Церкви – останавливаться на таком предмете.
Но касательно сущности неба довольно для нас сказанного у Исаии, который в простых словах дал нам достаточное понятие о природе его, сказав: “Небеса исчезнут, как дым” (Ис 51:6), то есть для сотворения неба Осуществивший естество тонкое, не твердое, не грубое. И об очертании неба достаточно для нас сказано у того же Пророка в славословии Богу: “Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья” (Ис 40:22).
То же самое правило предпишем себе и касательно земли: не любопытствовать об ее сущности, чтó она такое, не тратить времени на умствования, исследывая самое подлежащее, не доискиваться какого-то естества, которое лишено качеств, и само в себе взятое бескачественно, но твердо помнить, что все свойства, усматриваемые в земле, будучи восполнением сущности, входят в понятие бытия» [11, стр. 13 – 14].
То же самое можно сказать о пространственном положении земли во вселенной:
«Посему советую тебе, оставив всё это, не доискиваться и того, на чём земля основана. <…> Если скажешь, что воздух подложен под широту земли, то придешь в затруднение, каким образом естество мягкое, заключающее в себе много пустоты, противоборствует такой тяжести, будучи ею сдавлено, а не расплывается во все стороны, убегая из-под гнёта и непрестанно переливаясь на верх гнетущего. Опять, если предположишь себе, что вода под землёю, то и в таком случае должен будешь спросить, отчего тяжёлое и густое не погружается в воду, но слабейшим естеством поддерживается естество, столько превосходящее его тяжестью? Сверх того надобно будет найти опору и самой воде, и опять с недоумением спрашивать: на чём твердом или упорном лежит нижний её слой? Если же предположишь, что другое тело, которое тяжелее земли, препятствует ей идти книзу, то должен будешь рассудить, что и для него нужно какое-нибудь поддерживающее тело, не дозволяющее ему падать вниз. Если же и для него можешь придумать какой-нибудь подкладень, то разум наш опять потребует подпоры и для сего подкладня. А таким образом пойдём в бесконечность, для находимых непрестанно оснований придумывая опять новые. И чем далее станем простираться разумом, тем большую принуждены будем вводить поддерживающую силу, которая бы могла противиться в совокупности всему на ней лежащему.
Посему положи пределы своей мысли, чтобы за любопытство, старающееся изведать непостижимое, и тебя не коснулось слово Иова, чтобы и к тебе не мог относиться его вопрос: “На чём утверждены основания её?” (Иов 38: 6). Но если слышишь иногда в псалмах: “Я утвержу столпы её” (Пс 74:4), то разумей, что столпами названа сила, поддерживающая землю. Ибо слова: “Он основал её на морях” (Пс 23:2) что означают, как не то, что водное естество повсюду разлито вокруг земли? Как же вода, будучи текучею, и по скату обыкновенно падающая вниз, остаётся висящею и никуда не стекающею? А ты не рассуждаешь, что то же или еще большее затруднение представляет разуму земля, сама на себе повешенная, между тем как она по естеству тяжелее. Но согласимся ли, что земля висит сама на себе, или скажем, что она держится на воде, – в обоих случаях необходимо не отступать от благочестивого разумения и признавать, что всё в совокупности содержится силою Творца. А потому и себе самим, и спрашивающим нас: на чём опирается этот огромный и несдержимый груз земли? – надобно отвечать: “В руке Его все глубины земли” (Пс 94:4). Эта мысль и для нас самая безопасная и для слушающих полезная» [11, стр. 15 – 17].
О форме земли свт. Василий не говорит ничего определённого, по-видимому, так же не придавая этому вопросу принципиального значения. Из приведённых выше слов можно понять, что свт. Василий верил в существование «абсолютного (для всей вселенной) верха» и «абсолютного низа», так что все тяжёлые предметы (в том числе и сама земля) должны «стремиться» вниз, а лёгкие – вверх. Это может служить косвенным указанием на то, что земля имеет плоскую форму – представляет собой плоскость, перпендикулярную оси «верх – низ». Другим таким косвенным указанием может служить то, что свт. Василий говорит о «широте земли», но не говорит о её «высоте», подразумевая, по-видимому, что земля «широко» распространена «в стороны», но «высота» её пренебрежимо мала. О плоской земле свидетельствуют также высказывания свт. Василия, касающиеся размеров солнца и луны. «В какой части неба ни бывают они, восходят ли и заходят или занимают средину неба, отовсюду представляются людям равными; а сие служит ясным доказательством чрезмерной их величины, пред которою широта земли ничего не значит и не может сделать, чтобы они показались большими или меньшими. Ибо предметы, далеко отстоящие, видим несколько меньшими, и чем более к ним приближаемся, тем большею находим величину их. Но в рассуждении солнца никто ни ближе, ни дальше; а напротив того, обитателям всех частей земли представляется оно в ровном расстоянии. Доказательством же сему то, что и инды и британцы видят его равным. Ибо для живущих на востоке не убывает оно в величине по захождении, и для живущих на западе не кажется меньшим при восхождении и, находясь в средине неба, не переменяет своего вида для тех или других» [11, стр. 113 – 114; курсив мой – СМ]. И далее: «Но при какой величине земли, как могло бы солнце в одно мгновение времени осветить всю её, если бы не из великого круга посылало лучи свои?» [11, стр. 115 – 116; курсив мой – СМ].
Однако на основании других мест труда свт. Василия можно предположить, что он склонялся к тому, чтобы считать землю шарообразной и висящей «ни на чём» в центре вселенной. И именно этот центр определяет направление всех осей «верх – низ», которые не параллельны друг другу, будучи перпендикулярными к плоской поверхности земли, а сходятся к центру земли шарообразной, который одновременно является центром всей вселенной.
«Но они, вымерившие расстояние звёзд, описавшие звёзды, всегда видимые и северные, а также звёзды, находившиеся около южного полюса и живущим там видимые, а нам неизвестные, разделившие на тысячи частей и северную широту и зодиакальный круг, с точностью наблюдавшие возвращение звёзд, их стояния, склонения и общее движение к прежним местам, а также время, в какое каждая из планет совершает свой период, – они не нашли одного из всех способа, как уразуметь Бога, Творца вселенной и праведного Судию, воздающего каждому достойно по делам, и как вместить в уме вытекающую из понятия о суде мысль о скончании, потому что миру необходимо измениться, если и состояние душ перейдёт в другой род жизни» [11, стр. 6 – 7; курсив мой – СМ].
«Некоторые естествоиспытатели остроумно доказывают, что земля пребывает неподвижною уже и по следующим причинам: поелику она заняла среднее место в мире и во все стороны имеет равное расстояние от краёв, то, по недостатку причины уклониться куда-нибудь преимущественно, необходимо остаётся в своём положении, и окружающее её отовсюду равенство делает совершенно невозможным движение её к чему-нибудь. Среднее же место досталось земле не по жребию и не по случаю, но таково естественное и необходимое положение земли. Ибо, рассуждают они, как небесное тело удержало за собою крайнее место вверху, так все тяжести, какие предположим падающими сверху, должны отвсюду устремиться к средине. А куда стремятся части, туда, очевидно, соберётся и целое. Если же камни, деревья и все земляные частицы стремятся книзу, то это самое положение будет свойственно и прилично целой земле. А если что лёгкое устремится прочь от средины, то, очевидно, движение его будет кверху. Посему стремление книзу есть стремление, свойственное веществам тяжёлым; словом же низ означается середина. Итак, не дивись, что земля никуда не падает, занимая естественное для неё место – середину. Ибо, по всей необходимости, ей должно пребывать на своём месте, или, приняв противоестественное движение, сойти со свойственного ей основания.
Но если в сказанном доселе кажется тебе что-нибудь правдоподобным, то обратись с удивлением к Божией премудрости, которая так сие устроила» [11, стр. 17 – 18; курсив мой – СМ].
Небо, сотворённое в начале, имело во всяком случае сферическую форму. Будучи непрозрачным, оно отделило землю от «пренебесного» ангельского мира, пронизанного божественным светом, и создало ту «тьму над бездной», о которой говорится в Быт 1:2.
«Полагаем, что если было что-нибудь до составления сего чувственного и тленного мира, то оно, очевидно, находилось во свете. Ибо Ангельские чины, все Небесные воинства вообще, какие только есть, именуемые и неименуемые умные природы и служебные духи, жили не во тьме, но во свете и во всяком духовном веселии имели приличное для себя помещение. <…>
Посему, когда по Божию повелению, вдруг распростерто было небо вокруг того, что заключилось внутри собственной его поверхности, и стало оно непрерывным телом, достаточным к тому, чтобы отделить внутреннее от внешнего, тогда по необходимости само небо сделало неосвещённым объемлемое им место, пресекши лучи, идущие совне. <…> Таким образом, тьма в мире произошла от тени небесного тела» [11, стр. 31 – 32].
В первый «день» Творения земля со всех сторон была окружена водой, объём которой, по-видимому, сильно превосходил объём земли, так что земля составляла лишь небольшую центральную часть большого водного шара.
«Разлитие вод было беспредельно; как, вероятно, они со всех сторон омывали собою землю и возвышались над нею, так что, по-видимому, выходили из соразмерности с прочими стихиями. Посему-то выше было сказано, что бездна отовсюду облегала собою землю.
<…> На каком основании говорят, что земля, которая тяжелее воды, висит посредине и удалена от краев, на том же основании должны, без сомнения, согласиться, что и это необъятное количество воды, по естественному стремлению книзу и по причине равного тяготения во все стороны, держалось около земли. Таким образом, водное естество в безмерном множестве было разлито вокруг земли, не в соразмерности с нею, но во много крат превосходило ее; ибо так из начала предусматривал будущее великий Художник и в первых распоряжениях соображался с последующею потребностью» [11, стр. 49].
Вода, согласно свт. Василию, постоянно «истребляется» огнём, и так будет продолжаться до конца света, когда вся вода будет «истреблена» и земля погибнет в огне согласно пророчеству апостола Петра (2 Петр 3:5–7,10). Поэтому вначале воды было сотворено много, чтобы её хватило на всё время существования мира. «Посему-то Домостроитель вселенной приуготовил влажное естество в такой мере, чтобы оно, постепенно истребляемое силою огня, пребывало во всё то время, какое назначено стоять миру. А Расположивший всё весом и мерою (ибо по слову Иова: Он собирает капли воды; они во множестве изливаются дождём, – Иов 36:27) знал, сколько времени определить пребыванию мира и сколько нужно приготовить пищи огню. Такова причина преизбытка воды во время творения!» [11, стр. 50].
В связи с этим интересно отметить, что Бог, по мнению свт. Василия, сразу создавал мир конечным во времени. Конец света предполагался с самого начала и был заложен в основу мироздания, а вовсе не явился результатом грехопадения первых людей. И эта ограниченность (с обоих концов) мира во времени, очевидно, не была препятствием для высокой оценки его Богом (Быт 1:31) и не должна рассматриваться как некое его «несовершенство».
Между водой, окружавшей землю, и небом, по-видимому, находился воздух, и именно в этом воздухе воссиял свет, созданный в первый «день» Творения. «Озарился воздух, лучше же сказать, в целом объёме растворил всё количество света, повсюду, до самых своих пределов, распространяя быструю передачу лучей; ибо вверх простирался он до самого эфира и неба, а в широту все часта мира – северные и южные, восточные и западные – освещал в быстрое мгновение времени. Такова природа воздуха; она тонка и прозрачна; и потому проходящий чрез него свет не имеет нужды ни в каком временном протяжении. <…> И эфир стал приятнее при свете: воды сделались светлее, не только принимая в себя лучи, но и испуская их от себя чрез отражение света, потому что вода во все стороны отбрасывала отблески» [11, стр. 34].
Так же, как в концепции прп. Ефрема Сирина, последовательность «дней» Творения определяется у свт. Василия пульсацией этого «мирового» или «первобытного» (как его называет святитель) света. «Ныне, по сотворении уже солнца, день есть освещение воздуха солнцем, которое сияет в полушарии, лежащем над землёю, а ночь – покрытие земли тенью, когда сокрывается солнце. Но тогда, не по солнечному движению, но потому что первобытный оный свет, в определенной Богом мере, то разливался, то опять сжимался, происходил день и следовала ночь» [11, стр. 36].
Очевидно, что дни, определявшиеся пульсацией «мирового света», имели абсолютное и глобальное (для всей вселенной) значение. Но чтобы придать такое же значение солнечным суткам, свт. Василий вынужден обращаться к концепции плоской земли: одно из полушарий неба находится над землёй, а другое – под ней, и днём (в узком смысле) является период нахождения солнца в «верхнем» полушарии, а ночью – в «нижнем».
На второй «день» Творения внутри водной толщи, созданной в первый «день», была образована «твердь». Она не была тождественна небу, созданному в первый «день», и являлась, таким образом, как бы «вторым» небом. Так же, как и «первое» небо, она имела сферическую форму и была концентрична ему. Это следует из того, что светила, утверждённые на тверди в четвёртый «день» Творения, совершают по ней круговые движения: «И это <существование двух небес, созданных соответственно в первый и во второй «дни» Творения> нимало не страннее тех семи кругов, по которым, как все почти согласно признают, вращаются семь звёзд и которые, как говорят, приноровлены друг к другу наподобие кадей, одна в другую вложенных, и, двигаясь противоположно вселенной, по причине рассекаемого ими эфира, издают какой-то благозвучный и гармонический голос, который превосходит всякую приятность сладкопения» [11, стр. 44 – 45].
Твердь не была слишком твёрдой и называется твердью лишь по сравнению с ещё менее плотными субстанциями (небом, созданным в первый «день»? воздухом? паром?). Твердь является фильтром для воды: более «тонкая влага» поднимается над твердью, а более «грубая» опускается к земле. «Сказано, чтó значит в Писании наименование: “твердь”, а именно: не естество упорное, твердое, имеющее тяжесть и сопротивление, называет оно твердию (в таком случае, в более собственном смысле принадлежало бы сие именование земле), – напротив того, поелику всё, лежащее выше, по природе своей тонко, редко и для чувства неуловимо, то в сравнении с сим тончайшим и неуловимым для чувства она названа твердию. И ты представь себе какое-то место, в котором отделяются влаги, и тонкая процеженная влага пропускается вверх, а грубая и землянистая отлагается вниз, чтобы, при постепенном истреблении влажностей, от начала до конца сохранялось то же благорастворение» [11, стр. 52 – 53].
Между твердью («вторым небом») и землёй находится воздух, так же, как он находится между «первым небом» и «водой, которая над твердью». Его существование очевидно и наблюдается эмпирически. «Примечаем же, что небом называется часто видимое пространство, – по причине густоты и непрерывности воздуха, который ясно подлежит нашим взорам, и, как видимый, получает наименование неба; например, когда говорится: “птиц небесных” (Пс 8:9), и ещё: “полетят… по тверди небесной”» (Быт 1:20) [11, стр. 55].
На четвёртый «день» Творения на тверди небесной были поставлены светила, и с этого момента чередование дня и ночи определяется их движением. Свт. Василий отчётливо понимает, что пульсации «первобытного» света и движение светил суть разные процессы (они даже протекают в разных частях пространства: светила движутся по тверди и освещают пространство под ней, тогда как «первобытный» свет пульсировал в воздухе, находившемся между «первым» небом и всей массой воды, т. е. над твердью). Однако свт. Василий всячески старается связать эти процессы друг с другом, называя солнце «колесницей» света: «Тогда <в первый “день” Творения> произведено было самое естество света, а теперь приуготовляется это солнечное тело, чтобы оно служило колесницею тому первобытному свету» [11, стр. 98].
Это, конечно, необходимо, чтобы придать глобальный смысл «солнечным» дням, но в любом случае такой смысл может быть достигнут лишь ценой признания «абсолютного верха» и «абсолютного низа» вселенной, т. е. плоской земли: «Но сказано, и “для... дней”, не для того, чтобы производить дни, но чтобы начальствовать над днями. Ибо день и ночь были до сотворения светил. Это показывает нам и Псалом, говоря: поставил “солнце – для управления днём... луну и звёзды – для управления ночью” (Пс 135:8–9). Как же солнце имеет власть над днём? Оно носит в себе свет и, как скоро восходит над нашим горизонтом, рассеяв тьму, доставляет нам день. Посему не погрешит, кто даст такое определение дню: это воздух, освещённый солнцем; или: день есть мера времени, в которую солнце пребывает в полушарии над землёю» [11, стр. 112; курсив мой – СМ].
Говоря о смене времён года, свт. Василий признаёт, что зимой дни бывают короткими, а ночи – длинными, тогда как летом имеет место обратная картина. «Ибо зима бывает, когда солнце замедляет в южных частях, и в наших местах производит длинное ночное помрачение, отчего охлаждается окружающий землю воздух, и все влажные испарения, собравшиеся около нас, делаются причиною дождей, стужи и обильного снега. Когда же солнце, возвратившись опять из полуденных стран, достигает средины, так что делит время между ночью и днём поровну, тогда чем более замедляет оно над каким-либо местом на земле, тем большее в каждом производит благорастворение. И наступает весна, виновница прозябения во всех растениях, доставляющая оживление большей части дерев, и чрез преемство рождающихся поддерживающая роды всех животных, живущих на суше и воде. Отсюда уже солнце, переходя на самый север к летним поворотам, производит у нас самые долгие дни; а тем, что наибольшее время действует на воздух, как распаляет самый воздух, находящийся у нас над головою, так иссушает и землю, способствуя чрез то семенам созревать и пробуждая древесные плоды приходить в спелость» [11, стр. 110 – 111; курсив мой – СМ].
Тем самым признаётся относительность «солнечных дней». Но для спасения их глобального и абсолютного значения свт. Василий утверждает неизменность «солнечных суток», т. е. совокупной продолжительности дня и ночи: «День и ночь созданы однажды, но с тех пор и доныне не перестают попеременно следовать друг за другом и делить время на равные части» [11, стр. 64].
Эти слова можно понимать в том смысле, что свт. Василий считал первые три «дня» Творения равными по продолжительности астрономическим суткам (вопреки тому, что их продолжительность измеряется другим процессом, чем продолжительность астрономических суток), хотя в свете того определения понятия «день», которое цитировалось выше, возможно, что в данном случае речь идёт именно о солнечных сутках, а не о трёх первых «днях» Творения.
Поводя итог сделанному обзору «Бесед» свт. Василия Великого, можно отметить, что вопросам космографии он не придавал большого значения, вероятно, считая их маловажными, и вследствие этого его собственные космографические взгляды были довольно расплывчатыми и в чём-то даже противоречивыми. В целом он, по-видимому, склонялся к той же концепции, которую исповедовал прп. Ефре Сирин: первые три «дня» Творения определялись пульсацией «мирового света», а последующие – движением солнца, но они имели такой же абсолютный смысл, как и первые, благодаря тому, что земля имеет плоскую форму, чем определяется «абсолютный верх» и «абсолютный низ» вселенной.
4. Святитель Григорий Нисский

Свт. Григорий Нисский. Фреска из монастыря Хора в Константинополе. XIV в.
Святитель Григорий Нисский был младшим братом свт. Васидия Великого. Его сочинение «Защитительное слово о Шестодневе» [12], обращённое к их третьему брату свт. Петру Севастийскому, было написано вскоре после смерти свт. Василия, которая последовала в 379 г. По замыслу автора оно должно было содержать дополнения к «Беседам на Шестоднев» свт. Василия и разъяснения некоторых мест из этого трактата, трудных для понимания.
О космографии в собственном смысле свт. Григорий пишет мало, по-видимому, априорно соглашаясь почти со всем, что пишет по этому поводу свт. Василий. Единственное существенное различие состоит, вероятно, в том, что свт. Григорий не различает «первое» и «второе» небо, отождествляя (по крайней мере, по местоположению) твердь, созданную на второй «день» Творения, с небом, сотворённым «в начале». «Вода, которая над твердью», при этом трактуется свт. Григорием как, тварь, которая постигается не чувствами, а только умом, т. е. пренебесный ангельский мир («полнота умопредставляемых сил»). «И вода, над которою носился Божий Дух, есть нечто иное, а не это в низ стремящееся естество текучих вод; она твердью отделяется от тяжелой и в низ стремящейся воды. Если же в Писании и она именуется водою (чем, как по высшему умозрению догадываемся, означается полнота умопредставляемых сил); то никого да не смущает сия подобоимённость; потому что Бог есть и огонь поедающий (Втор 4:24), но понятие о сем огне не имеет вещественного значения. Посему, как познав, что Бог есть огонь, представлял ты Его чем-то иным, а не этим видимым огнём, так наученный, что над водою носится Божий Дух, представляй себе не это стремящееся в низ и текущее на землю естество; потому что Дух Божий носится не над земным и непостоянным. Итак, чтобы яснее открылось нам это понятие, кратко повторим смысл сказанного, а именно: твердь, которая названа небом, есть предел чувственной твари, и за сим пределом следует некая умопредставляемая тварь, в которой нет ни образа, ни величины, ни ограничения местом, ни меры протяжений, ни цвета, ни очертания, ни количества, ни чего либо иного усматриваемого под небом» [12, стр.24 – 25].
Граница, поверхность, разделяющая «умопредставляемую» и «чувственную» тварь, существовала уже в первый «день» Творения, но только во второй «день» она была «оформлена» в виде тверди как некоего материального тела, которое, однако, не было чем-то твёрдым и плотным, но наоборот – было чем-то очень лёгким и прозрачным: «Кто не знает, что все твёрдое сгущается по какому-то непременно упорству; а сгущённое и упорное не свободно от качества тяжести; тяжёлое же по естеству не может быть стремящимся выспрь. Напротив того твердь выше всей чувственной твари; потому сообразность с разумом требует не представлять о тверди чего-то грубого и телесного, но, как сказано, по сравнению с умопредставляемым и бесплотным, всё, что принадлежит к чувственному, хотя по естественной тонкости избегает нашего наблюдения, называется твердью» [12, стр. 23].
Представляется, однако, очень важным, что временные интервалы, соответствующие первым трём «дням» Творения, свт. Григорий связывает не с пульсациями «мирового света» (как свт. Василий), а с его «обтеканием» небесной сферы. Последующие же «дни» и ночи», порождаемые движением солнца, называются так по аналогии с соответствующими интервалами первых трёх «дней» Творения. «Поелико с того же мгновения, как начала составляться вселенная, огонь, подобно какой-то стреле, отбрасываемый иноестественными стихиями, по лёгкости и стремительности выспрь естественного ему движения, из всего был изгоняем, и с равною мысли скоростью проникнув чувственную сущность, не мог продолжать движения по прямой черте, потому что умопредставляемая тварь по необщимости не входит в смешение с чувственным, огонь же есть нечто чувственное; то по сей причине, достигнув крайних пределов твари, необходимо огонь совершает кругообразное движение, вложенною в естество его силою понуждаемый к общему движению со вселенной, тогда как не имеет для него места движение по прямому направлению (потому что всякая чувственная тварь заключена в собственных своих пределах), пролагает себе путь по крайнему пределу чувственного естества, движась, где только удобно, так как, по сказанному нами прежде, умопредставляемое естество не даёт в себе хода огню. Посему-то Моисей, последовав мыслию за движением огня, говорит, что сотворённый свет не остался в одних и тех же частях мира, но, обтекая грубейший состав существ, попеременно при сильном движении приносит частям неосвещённым светлость, а освещённым – мрак. И может быть, по временному протяжению такового преемства, совершающегося в дольней стране (разумею преемство света и тьмы), Моисей Богу также приписывает наименование дня и ночи, внушая о всём последовательно происходящем не представлять себе, будто бы получило начало самослучайно, или от кого-либо другого. Посему говорит: и назвал Бог свет днем, а тьму ночью (Быт 1:5). Поелику светоносная сила естественно не могла оставаться в покое, когда свет проходил верхнюю часть круга, и стремление его было в низ, то при нисхождении огня лежащее выше необходимо покрывалось тенью, потому что луч вероятно омрачаем был естеством грубейшим. Поелику удаление света именовал Моисей вечером, и когда огонь опять поднимался с нижней части круга, и снова простирал лучи к верхним частям, происходящее при сем нарёк он утром, наименовав так начало дня» [12, стр. 18 – 20].
Таким образом, свт. Григорий делает следующий шаг в направлении понимания относительности «дней» Творения: даже в первые три «дня» светлый и тёмный периоды наступали не одновременно по всей вселенной, а обславливались перемещением «мирового света» по небосводу, подобно тому, как это происходит сейчас при перемещении солнца. Свет «попеременно при сильном движении приносит частям неосвещённым светлость, а освещённым – мрак». И абсолютность «дней» Творения свт. Григорий спасает, опять же, только апелляцией к «абсолютному верху» и «абсолютному низу» вселенной (т. е. к плоской форме земли): когда свет «проходил верхнюю часть круга», то это создавало «вселенский» день, а «при нисхождении огня лежащее выше необходимо покрывалось тенью» и наступала «вселенская» ночь.
5. Святитель Иоанн Златоуст

Свт. Иоанн Златоуст. Фреска из монастыря Дионисиат на Афоне. XVI в.
«Беседы на книгу Бытия» святителя Иоанна Златоуста – это цикл проповедей, обращённых к народу Антиохии и произнесённых где-то между 388 и 396 г. [13]. Космографические воззрения свт. Иоанна, нашедшие отражение в этих беседах, близки к воззрениям прп. Ефрема Сирина с той только разницей, что свт. Иоанн полагал землю покоящейся на воде, а не воду на земле. Свт. Иоанн считал, по-видимому, что плоская земля накрыта «сверху» полусферическим небесным сводом, и указанием на это могут служить следующие его слова: «Видишь как (Давид) изобразил и красоту и быстроту движения (солнца)? Словами: “От края небес исход его, и шествие его до края их”<Пс 18:7> – (Давид) показал нам, как (солнце) мгновенно обтекает всю вселенную и от края до края разливает лучи свои, через то доставляя великую пользу» [13, стр. 55; курсив мой –СМ].
В отличие от свт. Василия Великого свт. Иоанн отождествлял твердь и небо, сотворённое в первый «день», и считал, что небо существует только одно: «Сказав: “В начале сотворил Бог небо и землю” <Быт 1:1>, потом показав причину, по которой земля была невидима, то есть что покрыта была тьмою и бездною вод, (Моисей) после сотворения света, соблюдая известный порядок и последовательность, говорит: “И сказал Бог: да будет твердь” <Быт 1:6>. Далее, объяснив с точностью назначение этой тверди и cказав: “да отделяет она воду от воды” <Быт 1:6>, эту самую твердь, производящую разделение между водами, Он назвал небом. Кто же после такого объяснения может согласиться с теми, которые говорят решительно от своего ума и осмеливаются, вопреки божественному Писанию, утверждать, будто много небес?» [13, стр. 35]. И далее свт. Иоанн объясняет что иногда встречающееся в Священном Писании употребление слова «небеса», есть следствие перевода с древнееврейского, где слово, обозначающее небо, не имеет формы единственного числа.
«Над» небесным сводом и «под» землёй согласно свт. Иоанну находится вода.
«И вот, что особенно дивно и чудно: Тот, Кто теперь словом Своим возбудил землю к произращению столь многочисленных семян и в этом показал Своё могущество, превосходящее ум человеческий, эту самую землю, тяжёлую и носящую на своём хребте такой мир, основал на водах, как говорит пророк: “Утвердил землю на водах” (Пс 135:6).
<…> В самом деле, природе воды противно носить на себе столь тяжёлое тело, равно и земле неестественно лежать на таком основании. Однако ж земля лежит на водах» [13, стр. 111].
Более подробно свт. Иоанн говорил об этом в «Беседах о статуях», произнесённых в 388 г.:
«Поэтому, когда увидишь, что носится поверх воды не малый камешек, но вся земля, и не погружается; то подивись силе, так сверхъестественно чудодействующей. А откуда это видно, что земля носится поверх воды? Пророк говорит об этом так: “Ибо Он основал её на морях и на реках утвердил её” (Пс 23:2); и опять: “Утвердил землю на водах” (Пс 135:6). Что говоришь? Малого камешка вода не может снести на своей поверхности, а носит такую землю, и горы, и холмы, и города, и растения, и людей, и бессловесных, – и (земля) не погружается. Что говорю – не погружается? Как она, будучи столь долгое время омываема снизу водой, не расплылась, и вся не превратилась в грязь? <...> Так от воды и железо умягчается, и деревья гниют, и камни разрушаются, а такая громада земли столько времени лежит на водах – и не погрузилась, не разрушилась, не погибла!
<…> Огонь по своей природе стремится вверх, всегда рвётся и летит на высоту, и, хоть бы тысячу раз его нудили и заставляли, не устремится вниз. Сколько бы раз ни брали мы горящий факел и ни наклоняли его вниз верхушкой, – однако не можем заставить пламя склониться вниз, напротив, и тогда оно бежит вверх и снизу стремится на высоту. Но с солнцем Бог сделал совершенно противное: обратил лучи его к земле и заставил свет стремиться вниз, как бы говоря ему этим положением: смотри вниз и свети людям; для них ты и сотворено. И пламя свечи не позволило бы сделать этого с собою, а столь великая и чудная звезда склоняется вниз, и смотрит к земле, в противоположность огню, – по силе Повелевшего. Хочешь, скажу и другое, тому же подобное? Хребет видимого неба со всех сторон окружают воды – и не стекают, не спадают, хотя не таково свойство вод: напротив, они легко стекают во впадины, если же тело будет выпуклое, они со всех сторон сбегают, и ни малая часть их не устоит на такой форме. Но вот чудо это случилось с небесами; и на это самое опять указывая, пророк говорит: “Хвалите Господа…, воды, которые превыше небес”» (Пс 148:1–4) [14, стр. 114 – 115].
Из этих слов также очевидно, что свт. Иоанн верил в существование «абсолютного верха» и «абсолютного низа» вселенной, что, как уже говорилось, неразрывно связано с представлениями о плоской форме земли.
Так же, как прп. Ефрем, свт. Иоанн связывает возможность измерения и счёта «дней» Творения с чередованием светлых и тёмных периодов, на которые указывает Быт 1: 4–5: «И всякий здравомыслящий может видеть, как с того времени доныне ни свет не преступил своих пределов, ни тьма не вышла из своего места и не произвела какого-либо смешения и нестроения. <…> Потом, так как каждому (свету и тьме) дано было особое имя, то, совокупив то и другое в одно, говорит <Моисей>: “И был вечер, и было утро: день один” <Быт 1:5>. Конец дня и конец ночи ясно назвал одним (днём), чтобы установить некоторый порядок и последовательность в видимом и не было бы никакого смешения» [13, стр. 26 – 27].
Однако, в отличие от прп. Ефрема и свт. Григория Нисского, свт. Иоанн считал, что каждый «день» Творения начинался не с «вечера» и не с «утра», а со светлого периода («дня» в узком смысле): «Видишь, с какой тщательностью он <Моисей> учит нас, называя окончание света – вечером, а конец ночи – утром, а всё вместе именуя днём, чтобы мы не думали ошибочно, будто вечер есть конец дня, но знали ясно, что продолжительность того и другого составляет один день. Справедливо поэтому может быть назван вечер окончанием света, а утро, т. е. конец ночи, – довершением дня» [13, стр. 38 – 39].
Понятно также, что поскольку речь здесь идёт о первых двух «днях» Творения, то упоминаемый святителем свет – это не солнечный свет, а «мировой» свет, существовавший ещё до появления солнца. «Поэтому (Тот <т. е. Бог>) и создал солнце в четвёртый день, чтобы не подумал ты, будто оно производит день» [13, стр. 56].
Таким образом, хотя свт. Иоанн нигде не говорит о механизме смены светлых и тёмных периодов в первые три «дня» Творения, однако продолжительность этих «дней» по его мнению явно измеряется указанными изменениями в бытовании «мирового» света. Ничего Свт. Иоанн также не говорит прямо об абсолютном смысле солнечных суток, хотя представления о плоской земле позволяют это сделать.
6. Святой блаженный Августин

Блаженный Августин. Фреска из капеллы Санкта-Санкторум на Латеранском холме (Рим). VI в.
Взгляды блаженного Августина на Творение подробно рассматривались мною в специальной статье «Идеи номогенеза в творениях св. блаженного Августина» [1]. К близким (но не тождественным!) выводам относительно этих взглядов приходит К. Каннингем [2]. Поэтому здесь имеет смысл остановиться лишь на основных моментах миропредставления блаженного Августина. При этом прежде всего необходимо иметь в виду его общую трактовку феномена времени. Рассуждения о времени составляют довольно значительную по объёму часть «Исповеди» (главы 10 – 30 книги XI), написанной блаженным Августином около 400 г. [7], и историки философии рассматривают этот фрагмент как одно из глубочайших за всю историю человечества сочинений о времени [3]. Б. Рассел [6], которого никак нельзя заподозрить в особой симпатии к средневековой философии, считал, что данные рассуждения по содержательности превышают всё, что писали по этому поводу античные мыслители.
Понимание св. блаженным Августином сущности времени коренным образом отличается от тех «наивных» представлений об «абсолютном» времени, которые прочно утвердились в сознании европейцев со времён И. Ньютона и продолжают господствовать в нём до сего дня. Согласно этим «наивным» представлениям время есть абсолютная, самобытная, ни от чего не зависящая субстанция, в которую как бы «погружены» все процессы, протекающие в мире, и относительно которой они, собственно, и «текут». Для блаженного же Августина время само является творением Божиим. Оно само определяется происходящими процессами и каждый процесс – это и есть по существу отдельное время: «Творения эти находятся в постоянной видоизменяемости, так что изменяемость эта даёт себя чувствовать в мире изменением времён <во множественном числе!>, которые мы наблюдаем и исчисляем; ибо от этой видоизменяемости, которой подлежит всё сотворённое, происходят самые времена, когда вещи в своих видах и образах постоянно изменяются и разнообразятся; и это с тех пор, как получили они своё образование из первобытной (земли), не имевшей ни вида, ни образа» [7, стр. 347].
То же понимание времени сохраняется у св блаженного Августина и в работе «О Книге Бытия буквально», написанной в 401 – 402 гг.: «Ибо если бы не было никакого движения духовной ли или телесной твари, благодаря которому будущее через настоящее следует за прошедшим, то не было бы никакого и времени. А само собою понятно, что тварь не могла двигаться, когда её ещё не было. Отсюда, скорее время началось от твари, чем – тварь от времени, а и то, и другая – от Бога» [9, стр. 9].
Частным случаем относительности (т. е. связанности с определённым локальным процессом) всякого времени является относительность солнечного времени, определяемого движением солнца по небосводу. Блаженному Августину был известен тот факт, что земля имеет форму шара и, когда в одном месте земли день, в другом может быть ночь и наоборот. И это обстоятельство не позволяет измерять «дни» Творения движением солнца и отождествлять их с солнечными сутками, поскольку «дни» Творения должны иметь абсолютный, а не относительный смысл. «Или не следует ли так сказать, что хотя это действие Божие <сотворение света> совершилось и быстро, но свет оставался дотоле не сменяясь ночью, пока не окончился дневной период времени; в свою очередь и ночь, сменившая свет, длилась до тех пор, пока не миновал период ночного времени, и по истечении единого и первого дня, не наступило утро следующего дня? Но если я скажу так, опасаюсь, как бы мне не быть осмеянным и со стороны людей, которые уже до подлинности знают, и со стороны тех, которые весьма легко могут узнать, что в то время, когда у нас бывает ночь, присутствие света освещает те части мира, через которые солнце возвращается с запада на восток, а потому в продолжение всех 24 часов, т. е. в течение полного круговращения солнца, в одних местах бывает день, а в других ночь. А разве ж мы поместим Бога в какой-нибудь части (мира), где бы для Него был вечер, когда из этой части свет отступает в другую? <…> Таким образом, когда солнце находится в южной части, у нас бывает день, а когда, совершая своё круговращение, оно переходит в северную часть, у нас наступает ночь, хотя в другой части, где светит солнце, бывает день, – если только мы далеки будем от поэтических вымыслов, будто бы солнце погружается в море, а утром выходит из него с другой стороны омытым» [8, стр. 154 – 155].
Требуемую абсолютность «дням» Творения не доставляет и «обтекание» мирового света, о котором писал свт. Григорий Нисский: «Или если он <свет> постоянно остаётся в той части неба, в которой находится и солнце, так что представляет собой не свет солнца, а как бы спутник его, и соединён с ним так, что не может быть от него отличаем, в таком случае мы снова встречаемся с прежним затруднением при разрешении этого вопроса, именно – так как подобно солнцу и свет, как его спутник, совершая круговращение, возвращается на восток с запада, и в то время, когда та часть [земли] в которой находимся мы, покрыта бывает мраком ночи, он находится в другой части мира: то обстоятельство это заставляет нас (чего, впрорчем, не дай Бог!) думать, будто и Бог был в той части, которую оставлял свет, так что и для него мог быть вечер» [8, стр. 156].
Но даже и пульсации «мирового» света, предполагавшиеся прп. Ефремом Сирином и свт. Василием Великим, не кажутся блаженному Августину приемлемым инструментом для измерения «дней» Творения: «Ибо не следует же думать, что свет то угасал, дабы после него наступал ночной мрак, и опять возжигался, чтобы наступало утро, прежде чем это стало обязанностью солнца; чтó, по свидетельству того же Писания, началось с четвёртого дня» [8, стр. 157].
Основание такого «скептицизма» – в том, что блаженный Августин не видит ни причин, ни целей, которые могли бы порождать предполагаемые пульсации. «Если же под днём и ночью мы захотели бы разуметь расширение и сокращение света, то не видим причины, почему бы могло быть так. Ибо тогда ещё не было животных, для которых подобные смены [света] были полезны и для которых, появившихся позднее, эти смены, как мы знаем, начали производиться через круговращение солнца. Да и примера не представляется, которым мы могли бы оправдать мысль, что подобное расширение и сокращение света могло бы производить день и ночь» [8, стр. 163].
В результате блаженный Августин приходит к принципиально важному выводу: мы не знаем, каким процессом определялось время Творения, поэтому у нас нет способов измерения этого времени и о продолжительности «дней» Творения мы ничего сказать не можем. И этот вывод касается не только первых трёх «дней», когда ещё не существовало солнца, но должен быть распространен и на все последующие «дни».
«Таким образом, чрез все эти дни проходит один день, который надобно понимать не в смысле обыкновенных дней, которые, как мы видим, определяются и исчисляются обращением солнца, а некоторым другим образом, какого не могут быть чужды три первые дня, исчисляемые до создания светил. И такой порядок продолжался не до четвёртого дня, с которого мы могли бы мыслить обыкновенные уже дни, а до шестого и седьмого <…>.
По этой причине ввиду того, что не можем в земной нашей смертности опытно знать тот день или те дни, которые исчислялись его повторением, а если можем достигнуть некоторого их понимания, не должны оставаться при дерзком мнении, что уже нельзя иметь о них другого, более соответственного и вероятного, представления, – мы должны думать так, что настоящие семь дней, составляя по примеру тех дней неделю, из повторения которой слагаются времена и каждый день которой продолжается от восхода до захода солнца, представляют собою некую смену творческих дней, но так, что не подобны им, а несомненно во многом от них отличны» [8, стр. 267 – 268; курсив мой – СМ].
Никакого иного смысла кроме как «этап Творения» в выражение «день Творения» вложить нельзя. «<…> Итак, трудно дознать, прошли ли те дни, или же, между тем как в порядке времён наши дни, к которым мы прилагаем название и число тех дней, ежедневно минуют, те дни продолжают оставаться [доселе] в самих основах вещей; так что не только в первых трёх днях, до появления светил, но и в остальных трёх под именем дня разумеются виды творимой вещи, а под ночью – отсутствие вида или недостаток его, или буде другим каким-нибудь словом можно лучше обозначить [момент], когда что-нибудь, при переходе от формы к бесформенности лишается вида (а такой переход или присущ в возможности всей твари, хотя в действительности его [иногда] и не бывает, как например, в высших небесных тварях, или же в целях восполнения временной красоты в низших предметах, совершается через чередующиеся смены всего преходящего путём исчезания старого и замены его новым); затем, вечер – это как бы окончание совершившегося творения, а утро – начало вновь начинающегося, ибо всякая сотворенная природа имеет свое определённое начало и свой конец» [8, стр. 234 – 235].
Шестоднев задаёт для нас порядок событий Творения (какое из них произошло раньше, а какое – позже), но он ничего не говорит о том, сколько времени отделяет одно событие от другого.
7. Заключение
Из приведённого обзора видно, что, по крайней мере, три первых «дня» Творения никем из святых отцов IV в. не отождествлялись с астрономическими сутками (периодами движения солнца по небосводу); их продолжительность исчислялась изменениями «мирового» или «первобытного» света, сотворённого в первый «день» Творения и никак не связанного с небесными светилами, которые появились лишь на четвёртый «день». «Дни» Творения, таким образом, были несоизмеримы с астрономическими сутками. Прп. Ефрем Сирин, свт. Иоанн Златоуст и свт. Василий Великий связывали «дни» Творения с периодическими «пульсациями» «мирового» света, а свт. Григорий Нисский – с его «обтеканием» небосвода. Но при этом как первым трём «дням» Творения, так и последующим, которые уже можно связать с движениями солнца, придавался абсолютный смысл: и «дни» в целом, и их составные части («вечер», «утро» и т. д.) были событиями всей вселенной, начинались и заканчивались одновременно во всём тварном мире. Астрономическим суткам удавалось приписать такой абсолютный смысл благодаря представлениям о плоской земле, находящейся в центре вселенной: когда солнце находится «над» землёй, во всей вселенной имеет место день, а когда «под» землёй, – ночь.
В космографических воззрениях святых отцов IV в. можно, однако, наметить некоторую тенденцию к релятивизации времени Творения, соответствующую приближению этих космографических представлений к современным. Так прп. Ефрем Сирин и свт. Иоанн Златоуст, по-видимому, считали небосвод полусферическим, свт. Василий Великий представлял его себе как целую сферу, а свт. Григорий Нисский считал, что «мировой» свет, подобно солнцу, совершает круговые движения по этой небесной сфере. Но только блаженный Августин уже в V в. осознал, что земля имеет форму шара и это понимание привело его к представлению об относитльности времени и как следствие – о полной невозможности соотнести «дни» Творения с астрономическими единицами, определяемыми с помощью наблюдений за движениями небесных светил по небосводу.
Лишь естествознание XX в. снабдило нас способами измерения времени (расширение вселенной, радиоактивный распад изотопов, термолюминесценция минералов), которые можно экстраполировать в доисторическое прошлое и которые не были известны отцам IV – V вв. И только эти научные данные со всей доказательной силой, свойственной науке, свидетельствуют о том, что время, прошедшее от начала мира до сотворения человека, было во много раз более долгим, чем вся последующая история человечества.
Протоиерей Глеб Каледа [4] настаивал на различении (особенно важном для патрологии) таких понятий, как миропредставление и мировоззрение. Миропредставление – это система конкретных знаний об «устройстве» тварного мира (его структуре, функционировании и истории), создаваемая на основе наблюдений за конкретными эмпирическими феноменами; тогда как мировоззрение – это комплекс представлений о последних началах этого мира, причинах и целях его существования, о роли человека в мире. «Мировоззрение современных христиан – то же, что мировоззрение свт. Василия Великого и апостола Павла, но наше миропредставление отличается не только от их миропредставления, но и от взгляда людей начала XX века» [4, стр. 90].
Вполне соглашаясь с данной мыслью протоиерея Глеба, я думаю, что творения святых отцов должны восприниматься нами скорее как учебник, а не как справочник. Они учат нас тому, как мы должны мыслить, а не тому, что мы должны мыслить по тому или другому конкретному вопросу. И если, например, свт. Василий Великий интерпретировал Священное Писание на основе данных науки своего времени, то это значит, что мы должны интерпретировать Священное Писание в свете науки своего времени, а не времени свт. Василия Великого.
Литература
1. Гоманьков А. В. Библия и природа. Эволюция, креационизм и православное вероучение. М.: ГЕОС, 2014, 188 стр.
2. Каннингем К. Благочестивая идея Дарвина. Почему и ультрадарвинисты, и креационисты её не поняли (перев. с англ.). М.: ББИ, 2018, 581 стр.
3. Майоров Г. Г. Формирование средневековой философии. Латинская патристика. М.: Мысль, 1979, 440 стр.
4. Протоиерей Глеб Каледа. Домашняя церковь. Очерки духовно-нравственных основ созидания и построения семьи в современных условиях. Издание 2-е. М.: Зачатьевский монастырь, 1998, 281 стр.
5. Протоиерей Константин Буфеев. Православное учение о Сотворении и теория эволюции. М.: Русский издательский центр имени святого Василия Великого, 2014, 438 стр.
6. Рассел Б. История западной философии (перев. с англ.). М.: АСТ, 2016, 1024 стр.
7. Св. блаженный Августин. Исповедь (перев. с лат.) // Творения блаженного Августина, Епископа Иппонийского, ч. 1. Издание 3-е. Киев, 1914, стр. 1 – 442.
8. Св. блаженный Августин. О книге Бытия буквально. Кн. 1 – 4 (перев. с лат.) // Творения блаженного Августина, Епископа Иппонийского, ч. 7. Издание 2-е. Киев, 1912, стр. 142 – 278.
9. Св. блаженный Августин. О книге Бытия буквально. Кн. 5 – 12 (перев. с лат.) // Творения блаженного Августина, Епископа Иппонийского, ч. 8. Издание 2-е. Киев, 1915, стр. 1 – 309.
10. Св. прп. Ефрем Сирин. Толкование на первую книгу, то есть на книгу Бытия (перев. с сир.) // Творения, т. 6. Изд-во «Отчий Дом», 1995, стр. 205 – 337.
11. Свт. Василий Великий. Беседы на Шестоднев (перев. с греч.) // Творения иже во святых отца нашего Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской, ч. I. М., 1845, стр. 1 – 174.
12. Свт. Григорий Нисский. О Шестодневе слово защитительное брату Петру (перев. с греч.) // Творения святого Григория Нисского, ч. 1. М., 1861, стр. 1 – 75 (Творения святых отцов в русском переводе, издаваемые при МДА, т. 37).
13. Свт. Иоанн Златоуст. Беседы на книгу Бытия (перев. с греч.). М.: Спасское братство, 2011, 806 стр.
14. Свт. Иоанн Златоуст. Беседы о статуях, говоренные к антиохийскому народу (перев. с греч.) // Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, Архиепископа Константинопольского, т. 2, кн. 1. СПб: С.-Петербургская Духовная Академия, 1896, стр. 5 – 247.
15. Священник Леонид Цыпин. Так чем же являются Дни Творения? Центральная проблема экзегетики Шестоднева. Киев: Пролог, 2005, 142 стр.
16. Шень А. Космография. М.: МЦНМО, 2009, 48 стр.
четверг, 03 августа 2023
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПАРАДОКС
1.
Пусть

это множество всех мужчин, живущих в настоящее время на Земле. Численность этого множества (обозначим её через

известна с большой точностью, но для наших целей достаточно принять её равной

человек. Каждый из этих мужчин имеет (или имел в прошлом) ровно одного отца. Но если мы рассмотрим множество отцов всех ныне живущих мужчин

то численность этого множества

будет меньше, чем

поскольку в множестве

имеется какое-то количество родных или единокровных братьев, которые имеют общих отцов. Отношение

обозначим через q и будем называть его коэффициентом братства (чем больше братьев имеется в множестве

тем меньше коэффициент q). Если теперь рассмотреть множество дедов по мужской линии всех ныне живущих мужчин

то его численность

будет по той же причине ещё меньше, чем

Таким образом, уходя вглубь поколений, мы получим монотонно убывающую последовательноcть:

Её можно рассматривать как геометрическую прогрессию со знаменателем, равным q, и формула общего члена этой прогрессии будет иметь вид

Зная величину q и решив уравнение

относительно n, можно оценить, сколько поколений назад жил общий предок всех ныне живущих мужчин (Адам или, если угодно, Ной). Решение уравнения (1), очевидно, имеет вид:

Для оценки величины q я использовал выборку, основанную на моих заздравном и заупокойном помянниках (множество мужчин, в пределах которого я хорошо знаю, кто чей брат). Это множество состояло из 149 мужчин и коэффициент братства для него оказался равным 0,8859. Подставляя это значение, а также известное значение

в равенство (2), можно получить, что Адам (или Ной) жил примерно 183 поколения или (предполагая, что время смены поколений у вида Homo sapiens составляет около 30 лет) 5 500 лет назад.
Эта цифра хорошо согласуется с традиционной библейской хронологией, но коренным образом противоречит данным археологии, поскольку в исходное множество

входили и все ныне живущие индейцы, и все аборигены Австралии мужского пола, тогда как согласно данным археологии люди заселили Северную и Южную Америку не позднее 13 000 лет назад, а Австралию – около 50 000 лет назад.
Для меня самым удивительным во всей этой теме представляется не столько сам описанный факт, сколько то, что о нём никто никогда не говорит – даже креационисты, хотя он прямо «льёт воду на их мельницу».
2.
Объяснение этого парадокса может заключаться в признании того, что на некотором этапе истории вида Homo sapiens у него произошло изменение стратегии размножения.
В биологии различаются два вида стратегии размножения: R- и K-стратегия. При R-стратегии каждый организм порождает большое количество потомков, но никак о них не заботится; поэтому до следующего размножения доживают в среднем только двое; процент детской смертности очень высок, но вид сохраняется благодаря большому абсолютному числу детей в каждом поколении. Примером животных с R-стратегией могут служить лягушки: каждая лягушка женского пола за сезон вымётывает порядка тысячи икринок, после чего оставляет их «на произвол судьбы», так что до состояния взрослой лягушки, которая сама способна производить потомство, развиваются в среднем только две. При K-стратегии размножения каждый организм порождает сравнительно небольшое число детей, но проявляет интенсивную заботу о своих потомках, обеспечивая тем самым сравнительно низкую детскую смертность. Примером животных с K-стратегией могут служить слоны, у которых каждая слониха за всю жизнь рождает 3 – 4 слонят, но тщательно «пестует» их вплоть до достижения взрослого возраста, оберегает от всевозможных опасностей и тем самым обеспечивает сравнительно низкую детскую смертность. Понятно, что в «чистом виде» каждая из стратегий встречается в природе редко, но реальная стратегия каждого вида занимает какое-то промежуточное положение между двумя «полюсами» – R и K, тяготея к одному из них.
Можно предположить, что на начальных этапах своего существования вид H. sapiens обладал преимущественно R-стратегией и его численность росла очень медленно, т. е. оставалась фактически неизменной, за счёт очень высокой детской смертности. Каждый мужчина мог родить хоть десятерых сыновей, но до половой зрелости и следующего размножения из них доживал только один. Поэтому среди взрослых мужчин фактически не было родных братьев и коэффициент братства q был равен единице. Но затем произошёл переход к K-стратегии и именно этот переход обеспечил тот рост численности человечества, который мы наблюдаем в настоящее время (величина q скачкообразно упала от 1 до 0,8859). Таким образом, реконструкцию численности предков по мужской линии нельзя проводить до состояния

а можно лишь до уровня численности той популяции, которая существовала в момент смены стратегий.
Но против такого объяснения можно выдвинуть ряд возражений.
1) Смена стратегий размножения должна была произойти независимо и почти одновременно в Старом Свете, Америке и Австралии, что кажется малоправдоподобным.
2) Даже при постоянной численности популяции родные и единокровные братья в ней должны существовать за счёт случайных флуктуаций. Кажется совершенно невероятным, чтобы из потомства, скажем, нескольких тысяч отцов у каждого отца выжил ровно один сын. Скорее всего, найдутся всё-таки такие отцы, у которых выживет 2 сына за счёт того, что у других отцов не выживет ни одного. Поэтому братья неизбежно будут существовать в поколении сыновей. А поскольку мы оцениваем не общую, а эффективную численность популяции отцов (т. е. число тех мужчин, которые имеют потомков во всех последующих поколениях), то эта численность неизбежно будет ниже, чем численность мужчин в следующем поколении, и величина q всегда будет меньше единицы. Эффективная численность мужчин будет расти даже при условии, что общая численность популяции остаётся постоянной.
3) Смена стратегий размножения, очевидно, не могла произойти раньше того момента, когда численность эффективной популяции мужчин при движении вспять по оси времени достигает значения 1, т. е. 5 500 лет назад. А в свете того, что мы вообще знаем об истории человечества из археологических данных, забота о потомстве у людей возникла заведомо раньше этого времени.
3.
Более правдоподобное объяснение описанного парадокса заключается в предположении, что величина q действительно не оставалась постоянной на протяжении человеческой истории, но изменялась она не скачкообразно, как в модели смены стратегии размножения, а постепенно – за счёт постепенного же снижения детской смертности в результате развития медицины и общего увеличения комфортабельности и безопасности жизненных условий. Это постепенное снижение коэффициента братства в истории приводит к тому, что при движении вспять по оси времени численность человечества уменьшается не экспоненциально (как было бы при постоянном q), а более медленно и, соответственно, значение

достигается на большем временнóм расстоянии от современности.
Однако, если считать, что величина q при движении вспять по оси времени возрастает линейно по закону
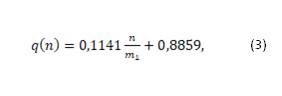
где n – число поколений, а

то число поколений, при котором коэффициент братства достигает значения 1, то, как показывают расчёты, крутизна роста функции q(n) при уменьшении

возрастает быстрее, чем снижается крутизна убывания величины

В результате величины

и

[те значения n, при которых соответственно q(n) и

достигают значения 1] совпадают в точке n=372, что соответствует времени 11 160 лет назад и не согласуется ни с библейской, ни с «антропологической» хронологией человеческой истории.
Таким образом, при движении вспять по оси времени мы должны предполагать более крутое возрастание коэффициента братства, чем то, которое задаётся линейным уравнением (3). Расчёты показывают, что приемлемым законом роста для коэффициента братства при движении вспять по оси времени является экспоненциальный закон:
q(n)=1-0,1141exp(-0,005424n) (4)
(рис. 1).
Рис. 1. Увеличение коэффициента братства при движении вспять по оси времени по закону (4)

Численность эффективной популяции мужчин при этом убывает до значения 11 за 433 поколения (т. е. примерно за 13 000 лет) и до значения 2 за 791 поколение (23 730 лет). На уровне 1938 поколения (58 140 лет назад) она становится меньше, чем 1,5, на уровне 2722 поколения (81 660 лет) принимает значение 1,4991 и далее при движении вспять по оси времени сохраняет это значение неограниченно долго (т. к. величина q становится фактически неотличимой от единицы), в том числе и до уровня в 5333 поколений, т. е. 160 000 лет (рис. 2).
Рис. 2. Уменьшение численности эффективной популяции мужчин при движении вспять по оси времени

Всё это хорошо согласуется с данными археологии: появлением вида Homo sapiens примерно 160 000 лет назад, заселением Австралии 50 000 лет назад и заселением Америки 13 000 лет назад. Малые значения численности популяции (и, соответственно большие значения коэффициента братства) при большом числе поколений не должны нас смущать, т. к. речь идёт о численности не всей популяции особей мужского пола вида Homo sapiens, а лишь её эффективной части, т. е. о численности тех мужчин, потомки которых по мужской линии дожили до современности: численность всей популяции мужчин могла составлять тысячи человек, но из них до настоящего времени дожили потомки лишь одного или двух.
Библейские образы Адама и Ноя являются хорошими иллюстрациями этого факта. У Адама было много сыновей (Быт 5:3-4), но лишь потомки одного из них - Сифа - пережили Всемирный Потоп, чтобы дать начало современному человечеству. К моменту Потопа численность человечества была, вероятно, уже довольно значительной (Быт. 6:1), но от Адама до Ноя эффективная популяция мужчин в каждом поколении состояла из одного человека, будучи представленной линией Адам - Сиф - Енос - Каинан - Малелеил - Иаред - Енох - Мафусал - Ламех - Ной (Быт 5:3 - 29). Все остальные потомки Адама по мужской линии либо не дожили до Потопа, либо погибли в его водах и, таким образом, не являются предками никого из современных мужчин.
1.
Пусть

это множество всех мужчин, живущих в настоящее время на Земле. Численность этого множества (обозначим её через

известна с большой точностью, но для наших целей достаточно принять её равной

человек. Каждый из этих мужчин имеет (или имел в прошлом) ровно одного отца. Но если мы рассмотрим множество отцов всех ныне живущих мужчин

то численность этого множества

будет меньше, чем

поскольку в множестве

имеется какое-то количество родных или единокровных братьев, которые имеют общих отцов. Отношение

обозначим через q и будем называть его коэффициентом братства (чем больше братьев имеется в множестве

тем меньше коэффициент q). Если теперь рассмотреть множество дедов по мужской линии всех ныне живущих мужчин

то его численность

будет по той же причине ещё меньше, чем

Таким образом, уходя вглубь поколений, мы получим монотонно убывающую последовательноcть:

Её можно рассматривать как геометрическую прогрессию со знаменателем, равным q, и формула общего члена этой прогрессии будет иметь вид

Зная величину q и решив уравнение

относительно n, можно оценить, сколько поколений назад жил общий предок всех ныне живущих мужчин (Адам или, если угодно, Ной). Решение уравнения (1), очевидно, имеет вид:

Для оценки величины q я использовал выборку, основанную на моих заздравном и заупокойном помянниках (множество мужчин, в пределах которого я хорошо знаю, кто чей брат). Это множество состояло из 149 мужчин и коэффициент братства для него оказался равным 0,8859. Подставляя это значение, а также известное значение

в равенство (2), можно получить, что Адам (или Ной) жил примерно 183 поколения или (предполагая, что время смены поколений у вида Homo sapiens составляет около 30 лет) 5 500 лет назад.
Эта цифра хорошо согласуется с традиционной библейской хронологией, но коренным образом противоречит данным археологии, поскольку в исходное множество

входили и все ныне живущие индейцы, и все аборигены Австралии мужского пола, тогда как согласно данным археологии люди заселили Северную и Южную Америку не позднее 13 000 лет назад, а Австралию – около 50 000 лет назад.
Для меня самым удивительным во всей этой теме представляется не столько сам описанный факт, сколько то, что о нём никто никогда не говорит – даже креационисты, хотя он прямо «льёт воду на их мельницу».
2.
Объяснение этого парадокса может заключаться в признании того, что на некотором этапе истории вида Homo sapiens у него произошло изменение стратегии размножения.
В биологии различаются два вида стратегии размножения: R- и K-стратегия. При R-стратегии каждый организм порождает большое количество потомков, но никак о них не заботится; поэтому до следующего размножения доживают в среднем только двое; процент детской смертности очень высок, но вид сохраняется благодаря большому абсолютному числу детей в каждом поколении. Примером животных с R-стратегией могут служить лягушки: каждая лягушка женского пола за сезон вымётывает порядка тысячи икринок, после чего оставляет их «на произвол судьбы», так что до состояния взрослой лягушки, которая сама способна производить потомство, развиваются в среднем только две. При K-стратегии размножения каждый организм порождает сравнительно небольшое число детей, но проявляет интенсивную заботу о своих потомках, обеспечивая тем самым сравнительно низкую детскую смертность. Примером животных с K-стратегией могут служить слоны, у которых каждая слониха за всю жизнь рождает 3 – 4 слонят, но тщательно «пестует» их вплоть до достижения взрослого возраста, оберегает от всевозможных опасностей и тем самым обеспечивает сравнительно низкую детскую смертность. Понятно, что в «чистом виде» каждая из стратегий встречается в природе редко, но реальная стратегия каждого вида занимает какое-то промежуточное положение между двумя «полюсами» – R и K, тяготея к одному из них.
Можно предположить, что на начальных этапах своего существования вид H. sapiens обладал преимущественно R-стратегией и его численность росла очень медленно, т. е. оставалась фактически неизменной, за счёт очень высокой детской смертности. Каждый мужчина мог родить хоть десятерых сыновей, но до половой зрелости и следующего размножения из них доживал только один. Поэтому среди взрослых мужчин фактически не было родных братьев и коэффициент братства q был равен единице. Но затем произошёл переход к K-стратегии и именно этот переход обеспечил тот рост численности человечества, который мы наблюдаем в настоящее время (величина q скачкообразно упала от 1 до 0,8859). Таким образом, реконструкцию численности предков по мужской линии нельзя проводить до состояния

а можно лишь до уровня численности той популяции, которая существовала в момент смены стратегий.
Но против такого объяснения можно выдвинуть ряд возражений.
1) Смена стратегий размножения должна была произойти независимо и почти одновременно в Старом Свете, Америке и Австралии, что кажется малоправдоподобным.
2) Даже при постоянной численности популяции родные и единокровные братья в ней должны существовать за счёт случайных флуктуаций. Кажется совершенно невероятным, чтобы из потомства, скажем, нескольких тысяч отцов у каждого отца выжил ровно один сын. Скорее всего, найдутся всё-таки такие отцы, у которых выживет 2 сына за счёт того, что у других отцов не выживет ни одного. Поэтому братья неизбежно будут существовать в поколении сыновей. А поскольку мы оцениваем не общую, а эффективную численность популяции отцов (т. е. число тех мужчин, которые имеют потомков во всех последующих поколениях), то эта численность неизбежно будет ниже, чем численность мужчин в следующем поколении, и величина q всегда будет меньше единицы. Эффективная численность мужчин будет расти даже при условии, что общая численность популяции остаётся постоянной.
3) Смена стратегий размножения, очевидно, не могла произойти раньше того момента, когда численность эффективной популяции мужчин при движении вспять по оси времени достигает значения 1, т. е. 5 500 лет назад. А в свете того, что мы вообще знаем об истории человечества из археологических данных, забота о потомстве у людей возникла заведомо раньше этого времени.
3.
Более правдоподобное объяснение описанного парадокса заключается в предположении, что величина q действительно не оставалась постоянной на протяжении человеческой истории, но изменялась она не скачкообразно, как в модели смены стратегии размножения, а постепенно – за счёт постепенного же снижения детской смертности в результате развития медицины и общего увеличения комфортабельности и безопасности жизненных условий. Это постепенное снижение коэффициента братства в истории приводит к тому, что при движении вспять по оси времени численность человечества уменьшается не экспоненциально (как было бы при постоянном q), а более медленно и, соответственно, значение

достигается на большем временнóм расстоянии от современности.
Однако, если считать, что величина q при движении вспять по оси времени возрастает линейно по закону
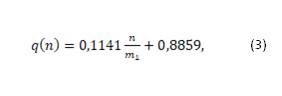
где n – число поколений, а

то число поколений, при котором коэффициент братства достигает значения 1, то, как показывают расчёты, крутизна роста функции q(n) при уменьшении

возрастает быстрее, чем снижается крутизна убывания величины

В результате величины

и

[те значения n, при которых соответственно q(n) и

достигают значения 1] совпадают в точке n=372, что соответствует времени 11 160 лет назад и не согласуется ни с библейской, ни с «антропологической» хронологией человеческой истории.
Таким образом, при движении вспять по оси времени мы должны предполагать более крутое возрастание коэффициента братства, чем то, которое задаётся линейным уравнением (3). Расчёты показывают, что приемлемым законом роста для коэффициента братства при движении вспять по оси времени является экспоненциальный закон:
q(n)=1-0,1141exp(-0,005424n) (4)
(рис. 1).
Рис. 1. Увеличение коэффициента братства при движении вспять по оси времени по закону (4)

Численность эффективной популяции мужчин при этом убывает до значения 11 за 433 поколения (т. е. примерно за 13 000 лет) и до значения 2 за 791 поколение (23 730 лет). На уровне 1938 поколения (58 140 лет назад) она становится меньше, чем 1,5, на уровне 2722 поколения (81 660 лет) принимает значение 1,4991 и далее при движении вспять по оси времени сохраняет это значение неограниченно долго (т. к. величина q становится фактически неотличимой от единицы), в том числе и до уровня в 5333 поколений, т. е. 160 000 лет (рис. 2).
Рис. 2. Уменьшение численности эффективной популяции мужчин при движении вспять по оси времени

Всё это хорошо согласуется с данными археологии: появлением вида Homo sapiens примерно 160 000 лет назад, заселением Австралии 50 000 лет назад и заселением Америки 13 000 лет назад. Малые значения численности популяции (и, соответственно большие значения коэффициента братства) при большом числе поколений не должны нас смущать, т. к. речь идёт о численности не всей популяции особей мужского пола вида Homo sapiens, а лишь её эффективной части, т. е. о численности тех мужчин, потомки которых по мужской линии дожили до современности: численность всей популяции мужчин могла составлять тысячи человек, но из них до настоящего времени дожили потомки лишь одного или двух.
Библейские образы Адама и Ноя являются хорошими иллюстрациями этого факта. У Адама было много сыновей (Быт 5:3-4), но лишь потомки одного из них - Сифа - пережили Всемирный Потоп, чтобы дать начало современному человечеству. К моменту Потопа численность человечества была, вероятно, уже довольно значительной (Быт. 6:1), но от Адама до Ноя эффективная популяция мужчин в каждом поколении состояла из одного человека, будучи представленной линией Адам - Сиф - Енос - Каинан - Малелеил - Иаред - Енох - Мафусал - Ламех - Ной (Быт 5:3 - 29). Все остальные потомки Адама по мужской линии либо не дожили до Потопа, либо погибли в его водах и, таким образом, не являются предками никого из современных мужчин.
воскресенье, 11 декабря 2022
Текст доклада, прочитанного мною на семинаре по философским вопросам естествознания в Радиевом институте им. В. Г. Хлопина 7/XII-2022
Проблема целесообразности относится, по-видимому, к числу вечных проблем, которые люди обсуждают с совершенно незапамятных времён. Представляется, что за это долгое время обсуждения данной темы в ней накопилась изрядная путаница в понятиях. Поэтому настоящее сообщение кажется разумным начать с некоего терминологического разъяснения: что именно в этом сообщении будет пониматься под словом «целесообразность». При этом, конечно, значения употребляемых слов я не буду брать «с потолка», а буду опираться не некую традицию словоупотребления, и для обозначения этой традиции я укажу на работу А. А. Ивина «Проблема понимания природы и понятие детерминизма» (Ивин, 2008).
Слово «целесообразность» будет пониматься далее в сугубо этимологическом духе. Целе-сообразность – это сообразность некоей цели, соотнесённость с некоторой целью. Но дальше может возникнуть вопрос, а что такое «цель». Попытки отвечать на подобные вопросы наталкиваются на серьёзную проблему. Допустим, что я сейчас объясню, что такое «цель», дам определение цели. Но при этом я всё равно буду пользоваться какими-то словами и к каждому из этих слов можно поставить вопрос, а что это слово значит. И таким образом, мы уйдём в дурную бесконечность и никогда не доберёмся до содержательного аспекта моего сообщения. Мы сталкиваемся здесь с истиной, которую давно и весьма основательно поняли математики, а люди других профессий почему-то понимают далеко не всегда: давать определения в условиях отсутствия системы неопределяемых понятий – это занятие совершенно бессмысленное.
Поэтому для того, чтобы объяснить, что такое цель, я введу по крайней мере одно неопределяемое понятие – понятие детерминации. Детерминация будет пониматься мною как бинарное отношение на множестве событий. Очень важно, что детерминация есть асимметричное отношение. Т. е. два события, участвующие в этом отношении, те события, между которыми это отношение существует, играют в нём неодинаковую роль. Одно из этих событий может быть названо детерминирующим, а другое – детерминируемым, и эти свойства событий – разные. Поскольку события обычно мыслятся как существующие во времени, а время тоже, как известно, асимметрично – оно направлено из прошлого в будущее, – то возникает вопрос, как соотносится эта асимметрия детерминации с асимметрией времени. Общий ответ на этот вопрос: никак не соотносится, т. е. в разных случаях может быть по-разному, детерминация может быть направлена в ту же сторону, что и время, а может и в противоположную. В связи с этим можно различать два разных вида детерминации.
Если детерминирующее событие предшествует во времени детерминируемому, то такая детерминация называется причинно-следственной связью. Детерминирующее событие в этом случае называется причиной, детерминируемое – следствием, а сама связь этих событий обозначается союзной группой «потому, что». Общая формула причинно-следственной связи выглядит следующим образом: следствие существует в настоящем потому, что в прошлом существовала причина. Пример причинно-следственной связи: охотник стреляет в оленя, и олень умирает. То, что охотник выстрелил, – это причина, а смерть оленя – это следствие; между причиной и следствием проходит некоторое время – время полёта пули или стрелы.
Если же детерминирующее событие следует во времени за детерминируемым, то такая детерминация называется целеполаганием. Детерминирующее событие при этом называется целью, детерминируемое – средством, а связь этих событий обозначается союзной группой «для того, чтобы». Общая формула целеполагания имеет вид: средство существует в настоящем для того, чтобы в будущем существовала цель. Ключевое слово здесь – предлог «для». Пример целеполагания: студент готовится к экзамену. Экзамен будет только завтра, но он из этого своего будущего «завтра» детерминирует поведение студента в настоящем: студент вместо того, чтобы пойти, скажем, в бар, сидит дома и читает учебник.
В истории натурфилософии очень много обсуждался вопрос о том, существует ли целеполагание во внечеловеческой, внесознательной сфере, в том мире, который обычно называется природой. Может ли кто-нибудь кроме человека предвидеть будущее и, соответственно, формировать какие-то цели? Понятно, что когда, например, кошка сторожит мышку, сидя около её норки, то это можно рассматривать как целеполагание – она там сидит для того, чтобы поймать мышку. Но кошка– это «высшее» животные, у которых есть какие-то «низшие» формы сознания, подобного сознанию человека, так что, возможно, о каких-то целях в отношении кошек говорить можно. Но возможно ли использование предлога «для» по отношению к бессознательной природе, или же такое использование есть дурной антропоморфизм, которому не соответствует никакой объективной реальности и от которого надо по возможности избавляться? Очень много копий было сломано и продолжает ломаться в ходе обсуждения этого вопроса, и сам А. А. Ивин, по-видимому, склонялся к тому (хотя прямо, кажется, не утверждал), что это вопрос веры – тот или иной ответ на него не может быть рационально обоснован.
Вся эта терминологическая конструкция А. А. Ивина, конечно, очень стройна и красива, но против неё можно выдвинуть одно возражение. Для того, чтобы его лучше понять, рассмотрим приведённый выше пример со студентом, готовящимся к экзамену, более конкретно. Допустим, например, что 20 мая 2018 г. студент Петя Иванов усердно готовился к экзамену по сопромату, а на следующий день, 21 мая 2018 г. он этот экзамен успешно сдал и получил свои заслуженные 5 баллов. Эту последовательность событий (или, если угодно, процесс) можно описать двумя разными способами. Можно сказать так, как мы уже сказали: 20 мая 2018 г. Петя усердно занимался сопроматом, для того чтобы 21 мая 2018 г. успешно сдать экзамен. Но можно сказать и иначе: 21 мая 2018 г. Петя успешно сдал экзамен, потому что 20 мая 2018 г. он к нему основательно подготовился. Средство и цель здесь выступают как причина и следствие. И это второе описание будет столь же адекватным, как и первое. Таким образом, если речь идёт о процессе, целиком протекавшем в прошлом, то различие между его каузальным и телеологическим описаниями носит чисто терминологический характер. Выбор одного или другого способа описания не имеет никакого отношения к объективной реальности. Это даже не вопрос веры, это вопрос вкуса – кому какие слова больше нравятся.
Если теперь посмотреть более конкретно, как эта тема бытовала в истории натурфилософии, то здесь в первую очередь надо назвать, наверное, Аристотеля, мировоззрение которого было в высшей степени телеологично. Одна «целевая причина» чего стóит! В свете терминологии А. А. Ивина это совершеннейший оксюморон, эклектика, вроде вертикального горизонта. Впрочем, возможно, что это вина не Аристотеля, а его переводчиков на русский язык. Греческое слово «ἀιτία», употреблявшееся Аристотелем, на русский переводится обычно как «причина». Хотя в свете терминологии А. А. Ивина его, может быть, было бы правильнее переводить как «детерминация». Тогда целевая причина – это то же самое, что целеполагание. Но как бы там ни было, Аристотель явно очень любил понятие цели и очень часто обращался к телеологическим описаниям чего бы то ни было. Вот, например, что он пишет в «Физике»: «Как делается каждая вещь, такова она и есть по своей природе, и какова она по природе, так и делается, если ничто не будет мешать. Делается же ради чего-нибудь, следовательно и по природе-рождению существует ради этого. Например, если бы дом был из числа природных рождающихся вещей, он возникал бы так же, как теперь делается искусством; если же рождающиеся вещи возникали бы не только в родах, но и путем искусства, они возникали бы соответственно своему природному способу. Следовательно, одно возникает ради другого. Вообще же искусство частью завершает то, что природа не в состоянии сделать, частью подражает ей» [Физика, 90 Ь]. «А так как природа двояка: с одной стороны, как материя, с другой — как форма, она же цель, а ради цели существует все остальное, то она и будет причиной "ради чего". Ошибки бывают и в произведениях искусства: неправильно написал грамматик, неправильно врач составил лекарство, отсюда ясно, что они могут быть и в произведениях природы. Если существуют некоторые произведения искусства, в которых "ради чего" достигается правильно, а в ошибочных "ради чего" намечается, но не достигается, то это же самое имеется и в произведениях природы, и уродства суть ошибки в отношении такого же "ради чего"» [Физика, 91 а].
Так же телеологично Аристотель трактовал понятие движения. Всю жизнь он делал вид, что полемизирует с Платоном, хотя на самом деле объективно то, что он писал, было скорее апологией философии Платона в её противостоянии философии Гераклита. Недаром в дальнейшем основными комментаторами и интерпретаторами Аристотеля были неоплатоники – Порфирий, Боэций, – которые слили философию Аристотеля и Платона в единую платоновско-аристотелевскую традицию. Согласно Аристотелю, самым главным в каждом предмете, его «сущностью» являлась его неизменная, устойчивая часть. Каждая вещь, по Аристотелю, обладает «естественным», свойственным ей местом или состоянием и стремится достичь этого состояния, которое для него оказывается состоянием покоя. Это стремление порождает так называемые «естественные» движения, направленные к состоянию покоя. Кроме естественных движений существют ещё насильственные, порождаемые внешними по отношению к данной вещи двигателями. Но эти движения тоже всегда направлены к некоторым целям, определяемым «устремлениями» двигателя. «Движение, по Аристотелю, всегда есть движение к определённому конечному состоянию. Естественное движение – это просто движение к состоянию покоя, соответствующему данному телу. Оно не имеет других определений кроме указания конечного пункта, места, в котором телу естественно покоиться. В насильственных движениях, где естественное место не является определяющим, конечный пункт всё же задан целевым устремлением двигателя» (Гайденко, Смирнов, 1989, стр. 231). Таким образом, всякое движение у Аристотеля целенаправлено и подразумевает существование некоторой цели.
От Аристотеля вся эта телеологичность перешла в схоластику (позднесредневековую фазу развития католического богословия), где Аристотель, как известно, почитался очень высоко. Мир сотворён Богом, – учили схоласты, – и сотворён с определённой целью (поскольку Бог существует вне времени, то конечное состояние мира было известно Ему с самого начала и, таким образом, может рассматриваться как Его цель). Таким образом, как весь мир в целом, так и каждая отдельная его вещь имеет определённую цель своего существования. Эти цели доступны для понимания людей, и в их постижении, собственно, и заключается познание мира людьми.
Схоластика, в свою очередь, породила науку в современном понимании этого слова. Существует очень много разных мнений о том, когда и как возникла наука. Далеко не всегда эти разные мнения противоречат друг другу, поскольку существуют разные понимания того, что такое наука. Мне сейчас не хотелось бы погружаться в дебри этих разногласий, и я просто скажу, что разделяю точку зрения таких мыслителей как М. К. Петров (1978), П. П. Гайденко (1997а,б), С. Яки (1992), Д. Рацш (Ratzsch, 2010). Согласно этой концепции наука (имеется в виду естествознание) родилась из схоластики на рубеже XIII и XIV веков. Если мир сотворён Богом, то его можно рассматривать как книгу, автором которой является Бог, и которая, таким образом, представляет собой как бы «второе» Откровение наряду с Библией. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь» (Пс 18:2). С XIV в. можно наблюдать предметное распочкование схоластического богословия на «теологию Откровения», предметом которой являлось Слово Божье, каким оно зафиксировано в Библии, и так называемую «естественную теологию (theologia naturalis)», направленную на чтение и изучение «Книги Природы». Таким образом, первой наукой в современном смысле этого слова по существу было богословие. Все сведения, составившие впоследствии фундамент конкретных естественных наук, входили в состав богословской дисциплины, именовавшейся естественным богословием, и считались источником знаний о Боге и средством приближения к Нему, а все разделы естествознания (физика, химия, биология, геология и т. д.) отпочковались от богословия в ходе дальнейшего развития того процесса дифференциации, который характерен для развития науки вообще.
В 30-ых годах XV в. испанский богослов Раймунд Сабундский написал труд под названием «Книга о Творении, или естественное богословие», где вполне отчётливо формулировалась идея о «Книге Природы» как источнике рационального знания. В 80-ых годах того же XV в. книга Раймунда Сабундского была первый раз издана и в дальнейшем неоднократно переиздавалсь, но в 1595 г. она была внесена католической церковью в Индекс запрещённых книг за содержащееся в ней утверждение о том, что Библия не является единственным источником истины. Несколькими десятилетиями позже был проведён известный процесс Галилея, и в этом можно видеть одну и ту же новую тенденцию в католическом богословии, благодаря чему англиканину Фрэнсису Бэкону пришлось в то же время фактически заново «открывать» понятие «Книги Природы»: «И для того чтобы мы не впали в заблуждение, Он <т. е. Бог> дал нам две книги: книгу Писания, в которой раскрывается воля Божья, а затем — книгу природы, раскрывающую Его могущество. Из этих двух книг вторая является как бы ключом к первой, не только подготавливая наш разум к восприятию на основе общих законов мышления и речи истинного смысла Писания, но и главным образом развивая дальше нашу веру, заставляя нас обратиться к серьезному размышлению о божественном всемогуществе, знаки которого четко запечатлены на камне Его творений» (Бэкон, 1977, стр. 122). Но всё это было уже потом.
А первоначально схоластика видела одну из главных своих задач в доказательстве бытия Божия, рациональном обосновании истин христианской веры и на службу этой сверхзадачи были поставлены и начала естественных наук, зарождавшиеся в рамках естественного богословия. Телеология играла весьма существенную роль в этой схоластической программе. Поскольку Бог премудр и всемогущ, то каждое Его творение, по мнению схоластов, идеальным образом соответствует той цели, которую Он перед этим творением поставил. Эти цели могут быть познаны людьми, и, таким образом, естественно-научная исследовательская программа, формулируемая схоластикой, заключалась в выявлении и обосновании всеобщей целесообразности, присущей природе. Нам сейчас, конечно, понятно, что программа эта была бесперспективной, ибо бытие Бога не может быть доказано (равно как и опровергнуто) никакими, в том числе и естественно-научными, средствами. “Terms like ‘plan’ obviously shift meaning when the element of time is absent. For God to plan is for the outcome to occur. There is no interval between the decision and completion. Thus the character of the process which, from our perspective, separates initiation and accomplishment is of no relevance to whether or not a place or purpose on the part of the Creator is involved” (E. McMullin, 1996, цит. по: Cunningham. 2010, p. 151 – 152). “I should say that, as a theist I do, of course, believe that the universe has a designer. But I don’t think that the truth of this thesis can be inferred from an examination of the biological world. And of course I don’t think that it can be inferred from an examination of the biological world that the universe does not have a designer…”, – пишет Питер ван Инваген (Inwagen, 2010, p. 817) Сейчас это понятно не только философам, но даже героям кинокомедий. Герой известного советского фильма «Берегись автомобиля» произносит знаменательную фразу: «Одни люди верят в то, что Бог есть, другие верят в то, что Его нет. И то, и другое недоказуемо». Этого героя играет Донатас Банионис, поэтому данное положение получило наименование «принципа Баниониса». Бытие Бога – это гёделевское утверждение, которое невозможно ни доказать, ни опровергнуть. Но в XIV в. до осознания теоремы Гёделя было ещё очень далеко (будучи доказанной в 1931 г., она даже и в XX в. произвела впечатление взорвавшейся бомбы), и люди тогда выдвигали такие исследовательские программы и пытались их реализовать.
Первую трещину схоластическая исследовательская программа дала благодаря трудам Иоганна Кеплера. Будучи лично глубоко верующим человеком, Кеплер, тем не менее, объективно выдвинул исследовательскую программу, в каком-то смысле прямо противоположную схоластической: он заявил, что астрономия должна основываться на физических причинах. Главный его труд, содержавший результаты его попыток объяснить странности орбиты Марса, носил название «Новая астрономия, основанная на причинах, или небесной физике». Конечно, то, что он называл причинами, не было причинами в смысле Ивина (т. е. детерминирующими событиями, предваряющими во времени детерминируемые). В терминологии Аристотеля это были скорее формальные, а не действующие причины. Но Кеплер перешёл Рубикон; первый шаг был сделан: от телеологического описания мира естествознание начало переход к описанию каузальному.
Уже в XVII в. Френсис Бэкон придал этому переходу статус эпистемологической максимы: мы должны исключить целевые причины Аристотеля из своего дискурса и рассматривать только действующие причины. Видите, как всё у Бэкона было интересно: с одной стороны – «Книга Природы» и естественное богословие, а с другой – сознательное исключение любых целевых причин. Т. е. бытие Бога не может быть доказано средствами естествознания, но если мы примем (в силу каких-либо ненаучных причин), что Бог существует, то естствознание может многое рассказать нам о Нём: какой Он, как и каким образом Он управляет нашим миром.
Полным триумфом программы Кеплера явилась теория Исаака Ньютона, полностью объяснившая всё устройство и функционирование Солнечной системы на основе физических причин. Сам Ньютон затруднялся с объяснением стабильности орбит, по которым планеты вращаются вокруг Солнца, и считал, что эта стабильность есть результат непосредственного вмешательства Бога в мировые процессы. Однако в конце XVIII в. Пьер Симон Лаплас, развив математическую теорию возмущений, показал, что для поддержания стабильности планетарных орбит достаточно самих законов Ньютона. Последней точкой в этой научной «революции» (хотя вряд ли можно называть её революцией, поскольку она продолжалась в течение двух столетий – почти столько же, сколько предшествующий ей «схоластический» этап развития науки) может считаться известный диалог Лапласа с Наполеоном Бонапартом. Лаплас показал Наполеону свой фундаментальный труд «Изложение системы мира». Наполеон, ознакомившись с ним, сказал: «Вы написали такую огромную книгу о системе мира и ни разу не упомянули о его Творце!». «Сир, – гордо ответил Лаплас, – я не нуждался в этой гипотезе!»
Здесь можно заметить, что все «отцы-основатели» новой науки – и Кеплер, и Галилей, и Ньютон, и Лаплас были физиками и астрономами. Биология на рубеже XVIII и XIX вв. оставалась почти не затронутой этой «казуалистической революцией». Отсутствие удовлетворительной редукции феномена жизни к законам физики даже и сейчас служит источником многочисленных спекуляций мистического толка (например, ID), а в те времена оно делало биологию чуть ли не единственным прибежищем, последней цитаделью естественного богословия. В 1802 г. был опубликован учебник для богословских факультетов университетов Уильяма Пэйли «Естественная теология, или признаки и свидетельства существования Бога, видимые в явлениях природы». Как явствуе даже из самого названия книги, естественная теология понималась Пэйли в своём совершенно первоначальном схоластическом смысле – как доказательство бытия Бога через рассмотрение целесообразности природного мира. Природный мир при этом (после трудов Ньютона и Лапласа) понимался как мир живых организмов, а целесообразность рассматривалась как нечто непосредственно усматриваемое в природе. В процессе познания она была первичной по отношению к цели. Логика Пэйли была примерно такой. Очевидно, что данный организм (или данный орган) устроен целесообразно. Следовательно, его существование имеет цель. Но цель может формироваться только разумным существом. Следовательно, данный организм создан разумным существом, т. е. Богом. Если, например, гуляя по полевой дороге, мы найдём на обочине часы, то мы не будем сомневаться в том, что они сознательно созданы разумным существом (часовщиком) для определённой цели. Точно так же мы не должны сомневаться в том, что сознательным разумным Существом для определённой цели создана лягушка, которую мы нашли на обочине той же самой дороги. Лягушка устроена столь же целесообразно (или даже ещё более целесообазно), как часы, и истинность этого утверждения представляется Пэйли самоочевидной и не нуждающейся ни в каком обосновании. Самоочевидность, непосредственная усматриваемость целесообразности позволяла вообще забыть о цели, не задумываться о ней и не пояснять каждый раз, о сообразности какой именно цели идёт речь в данном конкретном случае.
Книга Пэйли, по-видимому, была написана очень ярко и убедительно. Настолько ярко и убедительно, что даже такой современный «атеист от биологии», как Ричард Докинз, уделил ей немало восторженных слов (Докинз, 2019). По собственному признанию Чарльза Дарвина эта книга в молодости оказала на него огромное, можно даже сказать, формирующее влияние. Дарвин, видимо, глубоко проникся идеей Пэйли о самоочевидной целесообразности, присутствующей во всём живом. Но со времён Бэкона прошло два столетия и во времена Дарвина понятие целесообразности было уже несколько одиозным. Дарвин поставил перед собой задачу сделать в биологии то же, что сделал Ньютон в физике, – объяснить всё через естественные причины. Но саму идею самоочевидной целесообразности он изжить не смог (в том числе и в себе самом) и попросту заменил одиозное понятие целесообразности на менее одиозное понятие приспособленности. Хотя, если задуматься, то приспособленность – это всегда приспособленность для чего-то, т. е. это понятие так же подразумевает существование какой-то цели. Однако, казалось, что объяснить приспособленность легче, чем целесообразность. Дарвин объяснял её через конкурентную борьбу, обусловленную избыточным размножением. Неприспособленных организмов не существует, потому что они погибают в ходе конкурентной борьбы, уничтожаются естественным отбором. Выживание наиболее приспособленных – таков главный принцип дарвинизма. Правда, он был сформулирован не Дарвином, а Гербертом Спенсером, но Дарвин признал эту формулировку очень удачной и она до сих пор считается выражающей главную суть дарвинизма.
Противникам Дарвина в XIX в. казалось, что его теория покончила с целесообразностью в живой природе. Первые критики Дарвина Чарльз Ходж, Карл фон Бэр, Николай Николаевич Страхов, Николай Яковлевич Данилевский обвиняли его в том, что он якобы «изгнал» из сферы объяснений органического мира такой феномен как целесообразность и заменил его случайностью. «…Невозможно, – писал Н. Я. Данилевский (1885, стр. 23), – чтобы масса случайностей, не соображенных между собой, могла произвести порядок, гармонию и удивительнейшую целесообразность». Тот факт, что цели в мире бывают разными, одно и то же явление или действие может быть сообразным одной цели и совершенно не сообразным другой и, таким образом, все рассуждения о «целесообразности вообще», без уточнения того, о сообразности какой именно цели идёт речь, являются абсолютно бессмысленными, никого из этих критиков Дарвина не волновали. Более разумные противники Дарвина уже в XX в. сознавали, что Дарвин заменил целесообразность не случайностью, а приспособленностью. Они полагали, что слову «целесообразность» можно придать новый смысл (чем тот, который в него вкладывали Пейли и ранние критики Дарвина) и тем самым сохранить представления о целесообразности живого. Лев Семёнович Берг в своей книге «Номогенез, или эволюция на основе закономерностей», вышедшей в 1922 г., писал: «Целесообразным мы называем у организмов всё то, что ведет к продолжению жизни особи или вида» (Берг, 1977, стр. 98), что в дальнейшем позволило Александру Александровичу Любищеву (1973, стр. 43) квалифицировать саму теорию Дарвина как «крайний телеогенез». Если сравнить это с тем, что писали критики Дарвина в XIX в., то такую разноречивую критику можно рассматривать как весьма существенный аргумент в пользу теории Дарвина.
По существу, с телеологической трактовкой эволюции соглашаются и современные адепты дарвиизма. Они лишь заменяют одиозное слово «целесообразность», которое связывается с прежней религиозной ориентацией биологии, на слово «приспособленность», которое обозначает, по существу, то же самое. Но это – чисто терминологическое различие, ничего не меняющее на уровне понимания живой природы. Приспособительный характер эволюции – это общее место всех учебников по эволюционной биологии. Организмы суть машины для выживания, – пишет Ричард Докинз (1989), один из самых ярых и плодовитых дарвинистов современности, который видит величайшую заслугу Дарвина в объяснении приспособленности. Но употребление предлога «для», как мы видели, указывает на телеологичность описания, и здесь можно заметить, что для живых организмов выживание просто синонимично существованию. Другими словами, живые организмы существуют для того, чтобы существовать. На то, что принцип выживания наиболее приспособленного представляет собой тавтологию, указывал ещё Рональд Фишер в 30-ых годах прошлого века, но укоренённость дарвиновского мышления в идее целесообразности-приспособленности была очень основательно унаследована его последователями вплоть до Докинза и благодаря этому выживание наиболее приспособленных продолжает и в настоящее время рассматриваться как основополагающий принцип эволюционной биологии.
Подводя итоги и возвращаясь к тому, с чего мы начинали, можно сказать, что каузальное и телеологическое описания биологической эволюции являются равно возможными и различия между ними – это различия чисто языковые. Предпочтение одного из этих описаний другому не имеет никаких объективных или рациональных оснований и основывается всегда лишь на личных вкусах исследователя, создающего данное описание. Попытки же каузально объяснить целесообразность приводят лишь к тавтологии.
Закончить мне хотелось бы словами Конора Каннингема, под которыми я готов подписаться обеими руками: “For the only move left for the restrictive adaptationist is to say that arrival is purely random and that it is survival that causes what remains. But then Darwin’s brilliant idea of natural selection would indeed be reduced to a vacuous mantra: what exists is what survived — quod erat demonstrandum (that which was demonstrated) is necessarily fitter. Surely, we do not want to denigrate a great theory in this way” (Cunningham, 2010, p. 111). От себя замечу, что величие теории Дарвина, на мой взгляд, заключается совсем не в принципе выживания наиболее приспособленного, а в том, что она рассматривает эволюцию как случайный процесс. Дарвин пробил первую брешь в лапласовском детерминизме, утверждавшем жёсткую и однозначную причинную обусловленность всего существующего, и обратил внимание на объективную роль случайности в природе: столь важный и заведомо объективно существующий процесс как биологическая эволюция порождается случайными изменениями в отдельных организмах. Но это, как писали братья Стругацкие, уже совсем другая история.
Берг Л. С. Труды по теории эволюции. 1922 – 1930. Л.: Наука, 1977, 387 стр.
Бэкон Ф. О достоинстве и приумножении наук (перев. с англ.) // Фрэнсис Бэкон. Сочинения в двух томах. Второе, исправленное и дополненное издание. Том 1. М.: Мысль, 1977, стр. 81 – 523.
Гайденко В. П., Смирнов Г. А. Западноевропейская наука в средние века. Общие принципы и учение о движении. М.: Наука, 1989, 351 стр.
Гайденко П. П. Волюнтативная метафизика и новоевропейская культура // В. В. Иванов (ред.). Три подхода к изучению культуры М: МГУ, 1997а, стр. 5 – 74.
Гайденко П. П. Христианство и генезис новоевропейского естествознания // П. П. Гайденко (ред.). Философско-религиозные истоки науки. М.: Мартис, 1997б. стр. 44 – 87.
Данилевский Н. Я. Дарвинизм. Критическое исследование. Т. I, ч. 1. СПб, 1885, 519 стр.
Докинз Р. Эгоистичный ген (перев. с англ.). Corpus (АСТ), 1989, 237 стр.
Докинз Р. Слепой часовщик. Как эволюция доказывает отсутствие замысла во Вселенной (перев. с англ.). М.: АСТ (Corpus), 2019, 496 стр.
Ивин А. А. Проблема понимания природы и понятие детерминизма // Эпистемология и философия науки, 2008, т. XV, № 1, стр. 15 – 33.
Любищев А. А. Понятие номогенеза // Природа, 1973, № 10, с. 42 – 44.
Петров М. К. Перед «Книгой природы». Духовные леса и предпосылки научной революции XVII в. // Природа, 1978, № 8, стр. 110–119.
Яки С. Спаситель науки (пер. с англ.). М.: Греко-латинский кабинет Ю.А. Ши чалина, 1992, 315 стр.
Cunningham C. Darwin’s Pious Idea. Why the Ultra-Darwinists and Creationists Both Get It Wrong. Grand Rapids, Michigan – Cambridge, U.K.: William B. Eerdmans Publishing Company, 2010, 580 pp.
Inwagen P., van. Science and Scripture // Melville Y. Stewart (ed.). Science and Religion in Dialogue. Vol. 2. Wiley-Blackwell, 2010, p. 811 – 846.
Ratzsch D. The religious roots of science // Melville Y. Stewart (ed.). Science and Religion in Dialogue. Vol. 1. Wiley-Blackwell, 2010, p. 54 – 68.
ПРОБЛЕМА ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ В ЖИВОЙ ПРИРОДЕ
Проблема целесообразности относится, по-видимому, к числу вечных проблем, которые люди обсуждают с совершенно незапамятных времён. Представляется, что за это долгое время обсуждения данной темы в ней накопилась изрядная путаница в понятиях. Поэтому настоящее сообщение кажется разумным начать с некоего терминологического разъяснения: что именно в этом сообщении будет пониматься под словом «целесообразность». При этом, конечно, значения употребляемых слов я не буду брать «с потолка», а буду опираться не некую традицию словоупотребления, и для обозначения этой традиции я укажу на работу А. А. Ивина «Проблема понимания природы и понятие детерминизма» (Ивин, 2008).
Слово «целесообразность» будет пониматься далее в сугубо этимологическом духе. Целе-сообразность – это сообразность некоей цели, соотнесённость с некоторой целью. Но дальше может возникнуть вопрос, а что такое «цель». Попытки отвечать на подобные вопросы наталкиваются на серьёзную проблему. Допустим, что я сейчас объясню, что такое «цель», дам определение цели. Но при этом я всё равно буду пользоваться какими-то словами и к каждому из этих слов можно поставить вопрос, а что это слово значит. И таким образом, мы уйдём в дурную бесконечность и никогда не доберёмся до содержательного аспекта моего сообщения. Мы сталкиваемся здесь с истиной, которую давно и весьма основательно поняли математики, а люди других профессий почему-то понимают далеко не всегда: давать определения в условиях отсутствия системы неопределяемых понятий – это занятие совершенно бессмысленное.
Поэтому для того, чтобы объяснить, что такое цель, я введу по крайней мере одно неопределяемое понятие – понятие детерминации. Детерминация будет пониматься мною как бинарное отношение на множестве событий. Очень важно, что детерминация есть асимметричное отношение. Т. е. два события, участвующие в этом отношении, те события, между которыми это отношение существует, играют в нём неодинаковую роль. Одно из этих событий может быть названо детерминирующим, а другое – детерминируемым, и эти свойства событий – разные. Поскольку события обычно мыслятся как существующие во времени, а время тоже, как известно, асимметрично – оно направлено из прошлого в будущее, – то возникает вопрос, как соотносится эта асимметрия детерминации с асимметрией времени. Общий ответ на этот вопрос: никак не соотносится, т. е. в разных случаях может быть по-разному, детерминация может быть направлена в ту же сторону, что и время, а может и в противоположную. В связи с этим можно различать два разных вида детерминации.
Если детерминирующее событие предшествует во времени детерминируемому, то такая детерминация называется причинно-следственной связью. Детерминирующее событие в этом случае называется причиной, детерминируемое – следствием, а сама связь этих событий обозначается союзной группой «потому, что». Общая формула причинно-следственной связи выглядит следующим образом: следствие существует в настоящем потому, что в прошлом существовала причина. Пример причинно-следственной связи: охотник стреляет в оленя, и олень умирает. То, что охотник выстрелил, – это причина, а смерть оленя – это следствие; между причиной и следствием проходит некоторое время – время полёта пули или стрелы.
Если же детерминирующее событие следует во времени за детерминируемым, то такая детерминация называется целеполаганием. Детерминирующее событие при этом называется целью, детерминируемое – средством, а связь этих событий обозначается союзной группой «для того, чтобы». Общая формула целеполагания имеет вид: средство существует в настоящем для того, чтобы в будущем существовала цель. Ключевое слово здесь – предлог «для». Пример целеполагания: студент готовится к экзамену. Экзамен будет только завтра, но он из этого своего будущего «завтра» детерминирует поведение студента в настоящем: студент вместо того, чтобы пойти, скажем, в бар, сидит дома и читает учебник.
В истории натурфилософии очень много обсуждался вопрос о том, существует ли целеполагание во внечеловеческой, внесознательной сфере, в том мире, который обычно называется природой. Может ли кто-нибудь кроме человека предвидеть будущее и, соответственно, формировать какие-то цели? Понятно, что когда, например, кошка сторожит мышку, сидя около её норки, то это можно рассматривать как целеполагание – она там сидит для того, чтобы поймать мышку. Но кошка– это «высшее» животные, у которых есть какие-то «низшие» формы сознания, подобного сознанию человека, так что, возможно, о каких-то целях в отношении кошек говорить можно. Но возможно ли использование предлога «для» по отношению к бессознательной природе, или же такое использование есть дурной антропоморфизм, которому не соответствует никакой объективной реальности и от которого надо по возможности избавляться? Очень много копий было сломано и продолжает ломаться в ходе обсуждения этого вопроса, и сам А. А. Ивин, по-видимому, склонялся к тому (хотя прямо, кажется, не утверждал), что это вопрос веры – тот или иной ответ на него не может быть рационально обоснован.
Вся эта терминологическая конструкция А. А. Ивина, конечно, очень стройна и красива, но против неё можно выдвинуть одно возражение. Для того, чтобы его лучше понять, рассмотрим приведённый выше пример со студентом, готовящимся к экзамену, более конкретно. Допустим, например, что 20 мая 2018 г. студент Петя Иванов усердно готовился к экзамену по сопромату, а на следующий день, 21 мая 2018 г. он этот экзамен успешно сдал и получил свои заслуженные 5 баллов. Эту последовательность событий (или, если угодно, процесс) можно описать двумя разными способами. Можно сказать так, как мы уже сказали: 20 мая 2018 г. Петя усердно занимался сопроматом, для того чтобы 21 мая 2018 г. успешно сдать экзамен. Но можно сказать и иначе: 21 мая 2018 г. Петя успешно сдал экзамен, потому что 20 мая 2018 г. он к нему основательно подготовился. Средство и цель здесь выступают как причина и следствие. И это второе описание будет столь же адекватным, как и первое. Таким образом, если речь идёт о процессе, целиком протекавшем в прошлом, то различие между его каузальным и телеологическим описаниями носит чисто терминологический характер. Выбор одного или другого способа описания не имеет никакого отношения к объективной реальности. Это даже не вопрос веры, это вопрос вкуса – кому какие слова больше нравятся.
Если теперь посмотреть более конкретно, как эта тема бытовала в истории натурфилософии, то здесь в первую очередь надо назвать, наверное, Аристотеля, мировоззрение которого было в высшей степени телеологично. Одна «целевая причина» чего стóит! В свете терминологии А. А. Ивина это совершеннейший оксюморон, эклектика, вроде вертикального горизонта. Впрочем, возможно, что это вина не Аристотеля, а его переводчиков на русский язык. Греческое слово «ἀιτία», употреблявшееся Аристотелем, на русский переводится обычно как «причина». Хотя в свете терминологии А. А. Ивина его, может быть, было бы правильнее переводить как «детерминация». Тогда целевая причина – это то же самое, что целеполагание. Но как бы там ни было, Аристотель явно очень любил понятие цели и очень часто обращался к телеологическим описаниям чего бы то ни было. Вот, например, что он пишет в «Физике»: «Как делается каждая вещь, такова она и есть по своей природе, и какова она по природе, так и делается, если ничто не будет мешать. Делается же ради чего-нибудь, следовательно и по природе-рождению существует ради этого. Например, если бы дом был из числа природных рождающихся вещей, он возникал бы так же, как теперь делается искусством; если же рождающиеся вещи возникали бы не только в родах, но и путем искусства, они возникали бы соответственно своему природному способу. Следовательно, одно возникает ради другого. Вообще же искусство частью завершает то, что природа не в состоянии сделать, частью подражает ей» [Физика, 90 Ь]. «А так как природа двояка: с одной стороны, как материя, с другой — как форма, она же цель, а ради цели существует все остальное, то она и будет причиной "ради чего". Ошибки бывают и в произведениях искусства: неправильно написал грамматик, неправильно врач составил лекарство, отсюда ясно, что они могут быть и в произведениях природы. Если существуют некоторые произведения искусства, в которых "ради чего" достигается правильно, а в ошибочных "ради чего" намечается, но не достигается, то это же самое имеется и в произведениях природы, и уродства суть ошибки в отношении такого же "ради чего"» [Физика, 91 а].
Так же телеологично Аристотель трактовал понятие движения. Всю жизнь он делал вид, что полемизирует с Платоном, хотя на самом деле объективно то, что он писал, было скорее апологией философии Платона в её противостоянии философии Гераклита. Недаром в дальнейшем основными комментаторами и интерпретаторами Аристотеля были неоплатоники – Порфирий, Боэций, – которые слили философию Аристотеля и Платона в единую платоновско-аристотелевскую традицию. Согласно Аристотелю, самым главным в каждом предмете, его «сущностью» являлась его неизменная, устойчивая часть. Каждая вещь, по Аристотелю, обладает «естественным», свойственным ей местом или состоянием и стремится достичь этого состояния, которое для него оказывается состоянием покоя. Это стремление порождает так называемые «естественные» движения, направленные к состоянию покоя. Кроме естественных движений существют ещё насильственные, порождаемые внешними по отношению к данной вещи двигателями. Но эти движения тоже всегда направлены к некоторым целям, определяемым «устремлениями» двигателя. «Движение, по Аристотелю, всегда есть движение к определённому конечному состоянию. Естественное движение – это просто движение к состоянию покоя, соответствующему данному телу. Оно не имеет других определений кроме указания конечного пункта, места, в котором телу естественно покоиться. В насильственных движениях, где естественное место не является определяющим, конечный пункт всё же задан целевым устремлением двигателя» (Гайденко, Смирнов, 1989, стр. 231). Таким образом, всякое движение у Аристотеля целенаправлено и подразумевает существование некоторой цели.
От Аристотеля вся эта телеологичность перешла в схоластику (позднесредневековую фазу развития католического богословия), где Аристотель, как известно, почитался очень высоко. Мир сотворён Богом, – учили схоласты, – и сотворён с определённой целью (поскольку Бог существует вне времени, то конечное состояние мира было известно Ему с самого начала и, таким образом, может рассматриваться как Его цель). Таким образом, как весь мир в целом, так и каждая отдельная его вещь имеет определённую цель своего существования. Эти цели доступны для понимания людей, и в их постижении, собственно, и заключается познание мира людьми.
Схоластика, в свою очередь, породила науку в современном понимании этого слова. Существует очень много разных мнений о том, когда и как возникла наука. Далеко не всегда эти разные мнения противоречат друг другу, поскольку существуют разные понимания того, что такое наука. Мне сейчас не хотелось бы погружаться в дебри этих разногласий, и я просто скажу, что разделяю точку зрения таких мыслителей как М. К. Петров (1978), П. П. Гайденко (1997а,б), С. Яки (1992), Д. Рацш (Ratzsch, 2010). Согласно этой концепции наука (имеется в виду естествознание) родилась из схоластики на рубеже XIII и XIV веков. Если мир сотворён Богом, то его можно рассматривать как книгу, автором которой является Бог, и которая, таким образом, представляет собой как бы «второе» Откровение наряду с Библией. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь» (Пс 18:2). С XIV в. можно наблюдать предметное распочкование схоластического богословия на «теологию Откровения», предметом которой являлось Слово Божье, каким оно зафиксировано в Библии, и так называемую «естественную теологию (theologia naturalis)», направленную на чтение и изучение «Книги Природы». Таким образом, первой наукой в современном смысле этого слова по существу было богословие. Все сведения, составившие впоследствии фундамент конкретных естественных наук, входили в состав богословской дисциплины, именовавшейся естественным богословием, и считались источником знаний о Боге и средством приближения к Нему, а все разделы естествознания (физика, химия, биология, геология и т. д.) отпочковались от богословия в ходе дальнейшего развития того процесса дифференциации, который характерен для развития науки вообще.
В 30-ых годах XV в. испанский богослов Раймунд Сабундский написал труд под названием «Книга о Творении, или естественное богословие», где вполне отчётливо формулировалась идея о «Книге Природы» как источнике рационального знания. В 80-ых годах того же XV в. книга Раймунда Сабундского была первый раз издана и в дальнейшем неоднократно переиздавалсь, но в 1595 г. она была внесена католической церковью в Индекс запрещённых книг за содержащееся в ней утверждение о том, что Библия не является единственным источником истины. Несколькими десятилетиями позже был проведён известный процесс Галилея, и в этом можно видеть одну и ту же новую тенденцию в католическом богословии, благодаря чему англиканину Фрэнсису Бэкону пришлось в то же время фактически заново «открывать» понятие «Книги Природы»: «И для того чтобы мы не впали в заблуждение, Он <т. е. Бог> дал нам две книги: книгу Писания, в которой раскрывается воля Божья, а затем — книгу природы, раскрывающую Его могущество. Из этих двух книг вторая является как бы ключом к первой, не только подготавливая наш разум к восприятию на основе общих законов мышления и речи истинного смысла Писания, но и главным образом развивая дальше нашу веру, заставляя нас обратиться к серьезному размышлению о божественном всемогуществе, знаки которого четко запечатлены на камне Его творений» (Бэкон, 1977, стр. 122). Но всё это было уже потом.
А первоначально схоластика видела одну из главных своих задач в доказательстве бытия Божия, рациональном обосновании истин христианской веры и на службу этой сверхзадачи были поставлены и начала естественных наук, зарождавшиеся в рамках естественного богословия. Телеология играла весьма существенную роль в этой схоластической программе. Поскольку Бог премудр и всемогущ, то каждое Его творение, по мнению схоластов, идеальным образом соответствует той цели, которую Он перед этим творением поставил. Эти цели могут быть познаны людьми, и, таким образом, естественно-научная исследовательская программа, формулируемая схоластикой, заключалась в выявлении и обосновании всеобщей целесообразности, присущей природе. Нам сейчас, конечно, понятно, что программа эта была бесперспективной, ибо бытие Бога не может быть доказано (равно как и опровергнуто) никакими, в том числе и естественно-научными, средствами. “Terms like ‘plan’ obviously shift meaning when the element of time is absent. For God to plan is for the outcome to occur. There is no interval between the decision and completion. Thus the character of the process which, from our perspective, separates initiation and accomplishment is of no relevance to whether or not a place or purpose on the part of the Creator is involved” (E. McMullin, 1996, цит. по: Cunningham. 2010, p. 151 – 152). “I should say that, as a theist I do, of course, believe that the universe has a designer. But I don’t think that the truth of this thesis can be inferred from an examination of the biological world. And of course I don’t think that it can be inferred from an examination of the biological world that the universe does not have a designer…”, – пишет Питер ван Инваген (Inwagen, 2010, p. 817) Сейчас это понятно не только философам, но даже героям кинокомедий. Герой известного советского фильма «Берегись автомобиля» произносит знаменательную фразу: «Одни люди верят в то, что Бог есть, другие верят в то, что Его нет. И то, и другое недоказуемо». Этого героя играет Донатас Банионис, поэтому данное положение получило наименование «принципа Баниониса». Бытие Бога – это гёделевское утверждение, которое невозможно ни доказать, ни опровергнуть. Но в XIV в. до осознания теоремы Гёделя было ещё очень далеко (будучи доказанной в 1931 г., она даже и в XX в. произвела впечатление взорвавшейся бомбы), и люди тогда выдвигали такие исследовательские программы и пытались их реализовать.
Первую трещину схоластическая исследовательская программа дала благодаря трудам Иоганна Кеплера. Будучи лично глубоко верующим человеком, Кеплер, тем не менее, объективно выдвинул исследовательскую программу, в каком-то смысле прямо противоположную схоластической: он заявил, что астрономия должна основываться на физических причинах. Главный его труд, содержавший результаты его попыток объяснить странности орбиты Марса, носил название «Новая астрономия, основанная на причинах, или небесной физике». Конечно, то, что он называл причинами, не было причинами в смысле Ивина (т. е. детерминирующими событиями, предваряющими во времени детерминируемые). В терминологии Аристотеля это были скорее формальные, а не действующие причины. Но Кеплер перешёл Рубикон; первый шаг был сделан: от телеологического описания мира естествознание начало переход к описанию каузальному.
Уже в XVII в. Френсис Бэкон придал этому переходу статус эпистемологической максимы: мы должны исключить целевые причины Аристотеля из своего дискурса и рассматривать только действующие причины. Видите, как всё у Бэкона было интересно: с одной стороны – «Книга Природы» и естественное богословие, а с другой – сознательное исключение любых целевых причин. Т. е. бытие Бога не может быть доказано средствами естествознания, но если мы примем (в силу каких-либо ненаучных причин), что Бог существует, то естствознание может многое рассказать нам о Нём: какой Он, как и каким образом Он управляет нашим миром.
Полным триумфом программы Кеплера явилась теория Исаака Ньютона, полностью объяснившая всё устройство и функционирование Солнечной системы на основе физических причин. Сам Ньютон затруднялся с объяснением стабильности орбит, по которым планеты вращаются вокруг Солнца, и считал, что эта стабильность есть результат непосредственного вмешательства Бога в мировые процессы. Однако в конце XVIII в. Пьер Симон Лаплас, развив математическую теорию возмущений, показал, что для поддержания стабильности планетарных орбит достаточно самих законов Ньютона. Последней точкой в этой научной «революции» (хотя вряд ли можно называть её революцией, поскольку она продолжалась в течение двух столетий – почти столько же, сколько предшествующий ей «схоластический» этап развития науки) может считаться известный диалог Лапласа с Наполеоном Бонапартом. Лаплас показал Наполеону свой фундаментальный труд «Изложение системы мира». Наполеон, ознакомившись с ним, сказал: «Вы написали такую огромную книгу о системе мира и ни разу не упомянули о его Творце!». «Сир, – гордо ответил Лаплас, – я не нуждался в этой гипотезе!»
Здесь можно заметить, что все «отцы-основатели» новой науки – и Кеплер, и Галилей, и Ньютон, и Лаплас были физиками и астрономами. Биология на рубеже XVIII и XIX вв. оставалась почти не затронутой этой «казуалистической революцией». Отсутствие удовлетворительной редукции феномена жизни к законам физики даже и сейчас служит источником многочисленных спекуляций мистического толка (например, ID), а в те времена оно делало биологию чуть ли не единственным прибежищем, последней цитаделью естественного богословия. В 1802 г. был опубликован учебник для богословских факультетов университетов Уильяма Пэйли «Естественная теология, или признаки и свидетельства существования Бога, видимые в явлениях природы». Как явствуе даже из самого названия книги, естественная теология понималась Пэйли в своём совершенно первоначальном схоластическом смысле – как доказательство бытия Бога через рассмотрение целесообразности природного мира. Природный мир при этом (после трудов Ньютона и Лапласа) понимался как мир живых организмов, а целесообразность рассматривалась как нечто непосредственно усматриваемое в природе. В процессе познания она была первичной по отношению к цели. Логика Пэйли была примерно такой. Очевидно, что данный организм (или данный орган) устроен целесообразно. Следовательно, его существование имеет цель. Но цель может формироваться только разумным существом. Следовательно, данный организм создан разумным существом, т. е. Богом. Если, например, гуляя по полевой дороге, мы найдём на обочине часы, то мы не будем сомневаться в том, что они сознательно созданы разумным существом (часовщиком) для определённой цели. Точно так же мы не должны сомневаться в том, что сознательным разумным Существом для определённой цели создана лягушка, которую мы нашли на обочине той же самой дороги. Лягушка устроена столь же целесообразно (или даже ещё более целесообазно), как часы, и истинность этого утверждения представляется Пэйли самоочевидной и не нуждающейся ни в каком обосновании. Самоочевидность, непосредственная усматриваемость целесообразности позволяла вообще забыть о цели, не задумываться о ней и не пояснять каждый раз, о сообразности какой именно цели идёт речь в данном конкретном случае.
Книга Пэйли, по-видимому, была написана очень ярко и убедительно. Настолько ярко и убедительно, что даже такой современный «атеист от биологии», как Ричард Докинз, уделил ей немало восторженных слов (Докинз, 2019). По собственному признанию Чарльза Дарвина эта книга в молодости оказала на него огромное, можно даже сказать, формирующее влияние. Дарвин, видимо, глубоко проникся идеей Пэйли о самоочевидной целесообразности, присутствующей во всём живом. Но со времён Бэкона прошло два столетия и во времена Дарвина понятие целесообразности было уже несколько одиозным. Дарвин поставил перед собой задачу сделать в биологии то же, что сделал Ньютон в физике, – объяснить всё через естественные причины. Но саму идею самоочевидной целесообразности он изжить не смог (в том числе и в себе самом) и попросту заменил одиозное понятие целесообразности на менее одиозное понятие приспособленности. Хотя, если задуматься, то приспособленность – это всегда приспособленность для чего-то, т. е. это понятие так же подразумевает существование какой-то цели. Однако, казалось, что объяснить приспособленность легче, чем целесообразность. Дарвин объяснял её через конкурентную борьбу, обусловленную избыточным размножением. Неприспособленных организмов не существует, потому что они погибают в ходе конкурентной борьбы, уничтожаются естественным отбором. Выживание наиболее приспособленных – таков главный принцип дарвинизма. Правда, он был сформулирован не Дарвином, а Гербертом Спенсером, но Дарвин признал эту формулировку очень удачной и она до сих пор считается выражающей главную суть дарвинизма.
Противникам Дарвина в XIX в. казалось, что его теория покончила с целесообразностью в живой природе. Первые критики Дарвина Чарльз Ходж, Карл фон Бэр, Николай Николаевич Страхов, Николай Яковлевич Данилевский обвиняли его в том, что он якобы «изгнал» из сферы объяснений органического мира такой феномен как целесообразность и заменил его случайностью. «…Невозможно, – писал Н. Я. Данилевский (1885, стр. 23), – чтобы масса случайностей, не соображенных между собой, могла произвести порядок, гармонию и удивительнейшую целесообразность». Тот факт, что цели в мире бывают разными, одно и то же явление или действие может быть сообразным одной цели и совершенно не сообразным другой и, таким образом, все рассуждения о «целесообразности вообще», без уточнения того, о сообразности какой именно цели идёт речь, являются абсолютно бессмысленными, никого из этих критиков Дарвина не волновали. Более разумные противники Дарвина уже в XX в. сознавали, что Дарвин заменил целесообразность не случайностью, а приспособленностью. Они полагали, что слову «целесообразность» можно придать новый смысл (чем тот, который в него вкладывали Пейли и ранние критики Дарвина) и тем самым сохранить представления о целесообразности живого. Лев Семёнович Берг в своей книге «Номогенез, или эволюция на основе закономерностей», вышедшей в 1922 г., писал: «Целесообразным мы называем у организмов всё то, что ведет к продолжению жизни особи или вида» (Берг, 1977, стр. 98), что в дальнейшем позволило Александру Александровичу Любищеву (1973, стр. 43) квалифицировать саму теорию Дарвина как «крайний телеогенез». Если сравнить это с тем, что писали критики Дарвина в XIX в., то такую разноречивую критику можно рассматривать как весьма существенный аргумент в пользу теории Дарвина.
По существу, с телеологической трактовкой эволюции соглашаются и современные адепты дарвиизма. Они лишь заменяют одиозное слово «целесообразность», которое связывается с прежней религиозной ориентацией биологии, на слово «приспособленность», которое обозначает, по существу, то же самое. Но это – чисто терминологическое различие, ничего не меняющее на уровне понимания живой природы. Приспособительный характер эволюции – это общее место всех учебников по эволюционной биологии. Организмы суть машины для выживания, – пишет Ричард Докинз (1989), один из самых ярых и плодовитых дарвинистов современности, который видит величайшую заслугу Дарвина в объяснении приспособленности. Но употребление предлога «для», как мы видели, указывает на телеологичность описания, и здесь можно заметить, что для живых организмов выживание просто синонимично существованию. Другими словами, живые организмы существуют для того, чтобы существовать. На то, что принцип выживания наиболее приспособленного представляет собой тавтологию, указывал ещё Рональд Фишер в 30-ых годах прошлого века, но укоренённость дарвиновского мышления в идее целесообразности-приспособленности была очень основательно унаследована его последователями вплоть до Докинза и благодаря этому выживание наиболее приспособленных продолжает и в настоящее время рассматриваться как основополагающий принцип эволюционной биологии.
Подводя итоги и возвращаясь к тому, с чего мы начинали, можно сказать, что каузальное и телеологическое описания биологической эволюции являются равно возможными и различия между ними – это различия чисто языковые. Предпочтение одного из этих описаний другому не имеет никаких объективных или рациональных оснований и основывается всегда лишь на личных вкусах исследователя, создающего данное описание. Попытки же каузально объяснить целесообразность приводят лишь к тавтологии.
Закончить мне хотелось бы словами Конора Каннингема, под которыми я готов подписаться обеими руками: “For the only move left for the restrictive adaptationist is to say that arrival is purely random and that it is survival that causes what remains. But then Darwin’s brilliant idea of natural selection would indeed be reduced to a vacuous mantra: what exists is what survived — quod erat demonstrandum (that which was demonstrated) is necessarily fitter. Surely, we do not want to denigrate a great theory in this way” (Cunningham, 2010, p. 111). От себя замечу, что величие теории Дарвина, на мой взгляд, заключается совсем не в принципе выживания наиболее приспособленного, а в том, что она рассматривает эволюцию как случайный процесс. Дарвин пробил первую брешь в лапласовском детерминизме, утверждавшем жёсткую и однозначную причинную обусловленность всего существующего, и обратил внимание на объективную роль случайности в природе: столь важный и заведомо объективно существующий процесс как биологическая эволюция порождается случайными изменениями в отдельных организмах. Но это, как писали братья Стругацкие, уже совсем другая история.
Литература
Берг Л. С. Труды по теории эволюции. 1922 – 1930. Л.: Наука, 1977, 387 стр.
Бэкон Ф. О достоинстве и приумножении наук (перев. с англ.) // Фрэнсис Бэкон. Сочинения в двух томах. Второе, исправленное и дополненное издание. Том 1. М.: Мысль, 1977, стр. 81 – 523.
Гайденко В. П., Смирнов Г. А. Западноевропейская наука в средние века. Общие принципы и учение о движении. М.: Наука, 1989, 351 стр.
Гайденко П. П. Волюнтативная метафизика и новоевропейская культура // В. В. Иванов (ред.). Три подхода к изучению культуры М: МГУ, 1997а, стр. 5 – 74.
Гайденко П. П. Христианство и генезис новоевропейского естествознания // П. П. Гайденко (ред.). Философско-религиозные истоки науки. М.: Мартис, 1997б. стр. 44 – 87.
Данилевский Н. Я. Дарвинизм. Критическое исследование. Т. I, ч. 1. СПб, 1885, 519 стр.
Докинз Р. Эгоистичный ген (перев. с англ.). Corpus (АСТ), 1989, 237 стр.
Докинз Р. Слепой часовщик. Как эволюция доказывает отсутствие замысла во Вселенной (перев. с англ.). М.: АСТ (Corpus), 2019, 496 стр.
Ивин А. А. Проблема понимания природы и понятие детерминизма // Эпистемология и философия науки, 2008, т. XV, № 1, стр. 15 – 33.
Любищев А. А. Понятие номогенеза // Природа, 1973, № 10, с. 42 – 44.
Петров М. К. Перед «Книгой природы». Духовные леса и предпосылки научной революции XVII в. // Природа, 1978, № 8, стр. 110–119.
Яки С. Спаситель науки (пер. с англ.). М.: Греко-латинский кабинет Ю.А. Ши чалина, 1992, 315 стр.
Cunningham C. Darwin’s Pious Idea. Why the Ultra-Darwinists and Creationists Both Get It Wrong. Grand Rapids, Michigan – Cambridge, U.K.: William B. Eerdmans Publishing Company, 2010, 580 pp.
Inwagen P., van. Science and Scripture // Melville Y. Stewart (ed.). Science and Religion in Dialogue. Vol. 2. Wiley-Blackwell, 2010, p. 811 – 846.
Ratzsch D. The religious roots of science // Melville Y. Stewart (ed.). Science and Religion in Dialogue. Vol. 1. Wiley-Blackwell, 2010, p. 54 – 68.
суббота, 09 апреля 2022
Моей жене Кате
В русском иконописном обиходе с древнейших времён и до настоящего времени бытует слово "крин". Им обозначается элемент орнамента, имеющий вид цветка с тремя лепестками, причём. два боковых лепестка часто немного отогнуты назад.
Крины в белокаменной резьбе на фасаде Георгиевского собора в г. Юрьеве-Польском Владимирской обл. XIII в.

В качестве орнаментального элемента крины употребляются ещё с глубоко языческих времён.
Войлочный ковёр из Пазырыкского кургана (Горный Алтай). V - IV вв. до н. э. В нижней части ковра - орнамент с кринами.

Но наименование "кринов" они приобрели заведомо в связи с христианской культурой. В древнеславянском языке слово "крiнъ" означало лилию. Само слово "лилия" имеет латинское происхождение (лат. lilium) и появляется в русском (славянском) языке не позднее XV века (оно, в частности, присутствует в геннадиевском переводе Библии, вышедшем в 1499 году). Первоначально и вплоть до конца XVII в. оно, видимо, употреблялось наряду со словом «крин» в качестве его синонима. Как синонимы слова «крин» и «лилия» указываются в "Травнике Любчанина", переведённом с немецкого языка на русский в 1534 г. Отождествление широко распространённого орнаментального элемента с лилией связано, по-видимому, с упоминанием этого цветка в Новом Завете: Иисус Христос приводит лилии в Своей проповеди (Матф. VI, 28; Лук. XII, 27) именно как пример красоты. Таким образом, в сознании древнерусских и, вероятно, также византийских художников лилия становится символом красоты, хотя образ лилии использовался для украшения с древнейших времён: форму лилий имели, например, ещё капители колонн в притворе Соломонова храма в древнем Иерусалиме (3 Царств VII, 19 – 22).
Однако в иконописи крины использовались не только как элементы орнамента. Ангелы, представленные и на западно-европейских, и на греческих, и на русских средневековых иконописных изображениях, часто держат в руке длинный тонкий шест, увенчанный как раз таким «лилиеподобным» трёхлепестковым цветком, который в русской иконописной традиции назывался крином.
Ангел выводит апостола Петра из темницы. Мозаика Палатинской капеллы в Палермо. 1166 - 1189 гг.

Наплечник Андрея Боголюбского. Перегородочная эмаль с изображением Воскресения Христова. Изготовлен в 1170 - 1190 гг. в Германии. По преданию принадлежал Фридриху Брбароссе, который подарил его князю Андрею Боголюбскому. В настоящее время находится в Лувре.

Архангел Гавриил. Греческая икона XIII в. Музей г. Никосии (Кипр)

Архангелы Михаил и Гавриил. Иконы из деисусного чина (Новгород, XIV в.). ГРМ

Феофан Грек. Троица. Фреска из храма Спаса на Ильине улице (Новгород). 1378 г.

А. И. Казанцев. Икона Божьей Матери "Гора Нерукосечная". 1691 г. ГРМ

Древнеславянское слово «крiнъ» восходит к греческому слову «τό κρίνον» [не путать с «‘η κρήνη» («источник», «родник», «ключ»), откуда происходит «криница»], так же обозначавшему лилию и однокоренному со словом «‘η κρίσις», обозначавшему суд. Ангелы как на русских, так и на греческих иконах часто изображаются держащими в руках своеобразные «посохи» или шесты (иногда с трезубцем на нижнем конце), наподобие тех, которые изображены на приведённых выше иконах. В русском иконописном обиходе эти шесты именовались «мерилами» и были, по-видимому, символами справедливости (известен, например, свод древнерусских законов, который назывался «Праведное мерило»). На иконах Страшного Суда часто изображают, как ангелы с помощью этих мерил отгоняют бесов от весов, на которых взвешиваются грехи и добрые дела людей для определения их загробной участи, а также загоняют грешников в ад.
Страшный Суд. Русская икона середины XV в. ГТГ

Ангелы, загоняющие грешников в ад. Фрагмент современной иконы Страшного Суда из церкви Св. Александра Невского в г. Зеленограде (Московская обл.)

По-гречески такое мерило обозначается словом «‘ο κανών» (правило, норма, эталон), вероятно, родственным с «‘η κάνη», обозначавшим тростник и, следовательно, трость, прямую палку. Всё это позволяет построить следующую семантическую гипотезу.
В Греции лилия была символом суда. «Κανών» или «мерило», увенчанное лилией, в руках ангелов – это «судебный канон», т. е. орудие (и для людей, следовательно, символ) правильного и справедливого суда (а «Праведное мерило» – это своего рода плеоназм, вроде «внутреннего интерьера» или «прейскуранта цен»). Таким образом, первоначально лилия была атрибутом ангелов. Как постоянный атрибут архангела Гавриила она изображалась и на иконах Благовещения и вместе с этими изображениями проникла на Запад. Возможно, что именно благодаря этой «греческой» семантике (как символ справедливости) лилия стала изображаться на гербе французских королей.
Герб французских королей

На миниатюре в «Псалтири из Сент-Олбанса» – одной из древнейших миниатюр с изображением Благовещения, известных на Западе (~1120 г.), – лилия представлена уже не в руках архангела Гавриила, но композиционно явно связана с ним как именно его символ.
Благовещение. Миниатюра «Псалтири из Сент-Олбанса». ~1120 г. Хильдесхайм (Германия)

На древнейшей авторской картине итальянского Возрождения – «Благовещении» Дуччо ди Буонисенья (1308 – 1311 гг.) – архангел Гавриил так же держит в руках мерило, увенчанное крином.
Дуччо ди Буонисенья. Архангел Гавриил. Фрагмент картины «Благовещение». 1308 –11 гг.

На более поздних западноевропейских иконах лилия в руках архангела изображается уже вполне реалистично,
Братья ван Эйки. Гентский алтарь (фрагмент). 1430 г.

хотя часто с весьма длинным стеблем, так что всё растение ещё напоминает посох с навершием, украшенным цветами.
Фра Филиппо Липпи. Благовещение. 1443-45 гг.

Тогда же (в середине XV в.) появляются изображения Благовещения, где архангел Гавриил преподносит лилию Божьей Матери, как эдакий «галантный кавалер».
Фра Филиппо Липпи. Благовещение с предстоящими донаторами. 1440 г.

Цветок лилии становится здесь ещё как бы символом той благой вести, которую архангел принёс Божьей Матери (вести о будущем рождении от Неё Сына Божия), и тем самым – символом самого изображаемого события, т. е. Благовещения. (Можно сравнить заодно различную трактовку слов Божьей Матери "Се раба Господня", сказанных Ею в ответ архангелу, в западной и восточной традиции).
Д. Г. Россетти. "Ecce ancilla Domini". 1850 г.

Благовещение. Русская икона начала XX в.

В качестве символа Благовещения цветы лилии часто присутствуют на картинах, изображающих это событие (причём и на весьма древних), и отдельно от архангела Гавриила. Мы видели такие лилии, достаточно условно связанные с архангелом, на миниатюре из «Сент-Олбанской Псалтири», а на мозаике Пьетро Каваллини (1291) и на картине Яна ван Эйка (1434 - 1436) они представлены уже в качестве совершенно самостоятельного элемента интерьера, тогда как мерило в руке архангела имеет вид царского скипетра.
Пьетро Каваллини. Благовещение. Мозаика из церкви Санта-Мария-ин-Трастевере (Рим). 1291 г.

Ян ван Эйк. Благовещениею 1434 - 36 гг.

Можно заметить, кстати, что живописная трактовка слов Божьей Матери "Се раба Господня (Ecce ancilla Domini)" у Я. ван Эйка значительно ближе к православной иконе начала XX в., чем к картине Д. Г. Россетти 1850-го года.
На той же картине Дуччо «отдельная» ваза с лилиями присутствует наряду с крином, украшающим навершие мерила, которое держит архангел.
Дуччо ди Буонисенья. Благовещение. 1308 –11 гг.
 Яна ван Эйка
Яна ван ЭйкаЭти «интрерьерные» лилии в композициях Благовещения сохраняются в западной живописи вплоть до современности.
Б. Мурильо. Благовещение. 1655 г.

Д. Кольер. Благовещение. 2000 г.

Развитие темы "интерьерных" цветов в XIX в. приводит к тому, что сцена Благовещения может изображаться в саду, полном цветущих лилий, и иногда даже вообще без архангела Гавриила.
Д. Хичкок. Благовещение. 1887 г.

На картине Б. Э. Парсонс архангел хоть и присутствует, но лилию в руке держит уже не он, а Сама Божья Матерь.
Б. Э. Парсонс. Благовещение. 1897-99 г.

Так лилия становится атрибутом уже не архангела Гавриила, а Божьей Матери, символом Её неотъемлемых свойств - чистоты и девства. На картинах, сюжетом которых является Успение, лилии изображаются прорастающими из гроба Божьей Матери, опустевшем после Её телесного вознесения на небо.
Рафаэль Санти. Успение Божьей Матери. 1503 г.

Данный "семантический переход" можно увидеть уже на западноевропейских иконах конца XV в.,
Сандро Ботичелии. Алтарь Барди (Мадонна на троне с предстоящими св. Иоанном Крестителем и св. евангелистом Иоанном). 1484-85 гг.

хотя его проявления наблюдаются, как мы видели, и во все последующие эпохи.
Вероятно, как "отражение" образа Богоматери лилия часто встречается на изображениях св. Доминика, основателя доминиканского монашеского ордена, жившего в XIII в.
Карло Кривелли. Святой Доминик. 1472 г.

По преданию именно св. Доминик получил от Самой Девы Марии так называемый "Розарий" - цикл молитв, посвящённых прославлению Божьей Матери, и внедрил его в литургическую практику католической церкви.
В восточную иконопись лилия, возвращается «кружным путём» с Запада не раньше XVII в., когда всевозможные западные влияния в православии чрезвычайно усилились по сравнению с предшествующими временами. Навершия мерил у ангелов на православных иконах сравнительно рано утрачивают сходство с лилиями, заменяясь украшениями, которые, по-видимому, не несли никакой смысловой нагрузки.
Архангел Михаил. Византийская икона XIV в. Афинский музей византийского и христианского искусств (Греция)

Лилии же стали возвращаться на православные иконы уже исключительно в связи с темой Благовещения и собственно Божьей Матери.
Первоначально, по-видимому, на иконах Благовещения стали появляться просто абстрактные "цветы" (как в руках архангела Гавриила, так и в виде предметов интерьера).
Царские врата. Македония. XVII в.

Иван Максимов. Благовещение. 1670-е гг.

Интересна в этом отношении икона Благовещения третьей четверти XVI в. из Ярославского художественного музея, на которой архангел Гавриил в соответствии с древнерусской традицией протягивает к Божьей Матери руку в благословляющем жесте, а позднейший художник (вероятно, XVIII века). поновляя икону, "вложил" в эту руку букет пионов.
Икона Благовещения. Ярославль. 3-я четверть XVI в.

С XVIII в. в цветах, изображаемых на иконах Благовещения, можно более определённо узнавать лилии.
Икона Благовещения из праздничного чина церкви Св. Иоанна Предтечи в Рощенье, Вологда. ~1717 г.

Икона Благовещения. Россия. 1800 г.

В. Л. Боровиковский. Архангел Гавриил из композиции «Благовещение». Икона для царских врат Казанского собора в Санкт-Петербурге. 1804-09 гг.

М. В. Нестеров. Икона Благовещения из храма Марфо-Мариинской обители, Москва. 1910-11 гг.

Но так же с XVII в. в России появляется иконографический тип Божьей Матери, называемый «Неувядаемый Цвет», где Богородица изображается с цветком в руке, причём часто (особенно на более поздних изображениях) в этом цветке можно узнать лилию.
Иконы Божьей Матери «Неувядаемый Цвет»

Совсем недавно в России получил распространение иконографический тип Божьей Матери "Трилетствующая". Первая такая икона в Русской Православной Церкви была написана в Дерманском монастыре на Украине, вероятно, в 90-ых годах XX в. по открытке, привезённой из Иерусалима. Богородица на иконах этого типа изображается в виде трёхлетней девочки в голубом хитоне и так же держащей в руке белую лилию.
"Трилетствующая". Современная икона

Как и на западных изображениях, лилия в данном случае символизирует, очевидно, такие атрибуты Божьей Матери как чистота и непорочность. «Перед иконой “Неувядаемый Цвет” молятся, чтобы испросить у Богородицы наставление на путь праведной жизни, сохранить внутреннюю чистоту и красоту души, присущие истинному христианину. Чтится этот образ и у незамужних девушек, так как считается, что молитва Божией Матери перед Её иконой “Неувядаемый Цвет” помогает выбрать достойного юношу для семейной жизни» (www.ikonu.ru/info.php?id=642).
Как символ чистоты и целомудрия лилия изображается в руках святого преподобного Моисея Угрина, стяжавшего эти добродетели в жестокой борьбе против плотских искушений,
Св. прп. Моисей Угрин. Икона XIX в. из Киево-Печерской лавры

а также святой мученицы Елены Синопской, ограждавшей себя молитвой от посягательств турка, правителя города и казнённой за это по его приказу.
Св. мученица Елена Синопская. Современная греческая икона

понедельник, 03 января 2022
Направленность времени часто связывают с возрастанием энтропии, т. е. со вторым началом термодинамики (см., например, Хокинг, 2007). Хотя помимо возрастания энтропии существует ещё, как минимум, три «стрелы» времени (Гриб, 1974), о них вспоминают мало и редко.
Как подсказывает интуиция [и это подтверждается компьютерными экспериментами (Эткинс, 1987)], энтропия возрастает даже в сравнительно простых механических системах, описываемых законами Ньютона. Например, представим себе большой ящик с упругими стенками, внутри которого беспорядочно мечутся многочисленные очень маленькие упругие частицы. Для такой системы можно представить много разных процессов, которые будут являться проявлениями второго начала термодинамики. Скажем, если в начальный момент времени все частицы находятся в левой половине ящика, то можно предсказать, что их число в правой половине ящика будет со временем возрастать до тех пор, пока не станет примерно равным половине общего числа частиц, и дальше будет пребывать на близком уровне неограниченно долго. Или, скажем, если в начальный момент времени объём выпуклой оболочки всех частиц мал по сравнению с объёмом ящика, то можно предсказать, что со временем объём этой выпуклой оболочки будет возрастать до тех пор, пока не станет близким к объёму всего ящика, и дальше также неограниченно долго будет оставаться на уровне, близком к достигнутому.
На первый взгляд такое положение дел кажется парадоксальным, поскольку законы Ньютона инвариантны относительно направления времени: если в соответствующих уравнениях поменять направление времени на противоположное (параметр t заменить на –t), то сами уравнения останутся справедливыми. Таким образом, оказывается, что второе начало термодинамики не выводимо из законов Ньютона, и если рассматриваемая система описывается законами Ньютона исчерпывающим образом (зная координаты и скорости всех частиц в начальный момент времени, мы можем однозначно определить их координаты и скорости в любой последующий момент, а также в любой момент, предшествовавший начальному), то возникает вопрос: откуда в этой системе берётся необратимость времени?
Обратимость во времени законов Ньютона делает возможными такие процессы в системах, описываемых этими законами, которые сопровождаются уменьшением энтропии. В самом деле, пусть в начальный момент времени система находится в состоянии m, которое характеризуется энтропией H(m), а через некоторое время Δt она переходит в состояние n с большей энтропией, так что H(n) > H(m). Допустим также, что энтропия системы определяется только координатами частиц и не зависит от их скоростей (как в рассмотренных выше примерах с числом частиц в правой половине ящика и объёмом их выпуклой оболочки). Возьмём теперь состояние n и поменяем направления скоростей всех частиц на противоположные. Мы получим новое состояние системы n’, такое, что H(n’) = H(n). Если теперь состояние n’ рассмотреть в качестве начального, то в силу инвариантности законов Ньютона относительно направления времени система через время Δt придёт в состояние m’, которое будет отличаться от состояния m только скоростями частиц, но не их расположением. Следовательно, H(m’) = H(m) и H(m’) < H(n’). Таким образом, в рассматриваемой системе процесс, протекающий от состояния n’ к состоянию m’, сопровождается уменьшением энтропии.
Обычный ответ на рассуждения подобно рода заключается в указании на то, что второе начало термодинамики является не динамическим, а статистическим законом. Оно утверждает не то, что энтропия не может уменьшаться нигде и никогда, а лишь то, что такие процессы, сопровождающиеся уменьшением энтропии, весьма маловероятны. Но в каком смысле можно говорить о вероятности применительно к механическим системам рассматриваемого типа?
Если вероятность понижения энтропии в системе мала, то это значит, что начальных состояний, приводящих к уменьшению энтропии, в каком-то смысле «меньше», чем начальных состояний, приводящих к её увеличению. Если в ящике имеется N частиц, то множество возможных состояний системы Ω есть множество точек в некоторой области 6N-мерного пространства (каждая частица характеризуется 6 параметрами: 3-мя координатами самой частицы и 3-мя координатами вектора её скорости). Такое множество имеет мощность континуума. Следовательно, утверждение, что вероятность убывания энтропии в данной системе мала, подразумевает что на множестве Ω (фазовом пространстве) задана некая мера, такая, что множества состояний, приводящих к увеличению энтропии

и приводящих к её уменьшению

оказываются измеримыми. Для простоты и наглядности представим себе, что мы установили взаимно однозначное соответствие между фазовым пространством Ω и отрезком

и при этом все измеримые подмножества множества Ω соответствуют подмножествам отрезка Х, измеримым в смысле обычной меры длины.
Законы Ньютона всякому состоянию системы, рассматриваемому как начальное, и всякому интервалу времени Δt ставят в соответствие другое состояние, которого система достигает через время Δt. Таким образом, нельзя считать, что законы Ньютона обеспечивают полное и исчерпывающее описание системы. Они описывают лишь некий автоморфизм L(X) фазового пространства X, но они ничего не говорят о собственной структуре этого пространства и о распределении энтропии над ним. Автоморфизм L(X) должен обладать следующими свойствами:
1. В пространстве X всегда существуют «устойчивые» точки (в наших примерах они соответствуют состояниям системы, в которых скорости всех частиц равны 0), которые при любом Δt отображаются автоморфизмом L(X) только в самих себя. Тем не менее, поскольку система, вообще говоря, изменяется (по крайней мере, из некоторых начальных состояний), автоморфизм L(X) не является тождественным преобразованием.
2. Поскольку законы Ньютона обеспечивают не только однозначное предсказание состояния системы в будущем, но также и однозначную реконструкцию её состояния в прошлом, то автоморфизм L(X) должен быть изоморфизмом.
3. В силу однозначности предсказания и реконструкции временные траектории системы в пространстве X×t нигде не должны пересекаться.
4. Эти временные траектории, вообще говоря, не обязаны быть всюду непрерывными. В частности, они могут иметь точки разрыва в моменты соударения частиц друг с другом или со стенкой ящика, когда скорость частицы мгновенно меняет своё направление и, соответственно, можно считать, что в один и тот же момент времени частица имеет две разные скорости, а система находится в двух разных состояниях. Однако – опять же, из-за однозначности предсказания и реконструкции – все непрерывные участки временных траекторий (кроме «константных» траекторий, начинающихся из устойчивых состояний системы, о которых говорилось в п. 1) должны быть монотонными.
Можно придумать много разных функций

(где

начальное состояние системы в момент t = 0), удовлетворяющих перечисленным условиям. Например, будем считать, что «устойчивыми» являются только крайние точки: x = 0 и

а для любого x из интервала

автоморфизм L(X) определяется функцией:
 (1)
(1)
Все такие функции будут непрерывными и монотонно возрастающими, как показано в правой части рис. 1. Вместе с тем их множество обеспечивает взаимно однозначное отображение интервала

на самого себя, т. к. для любого x, такого, что

и любого t можно указать такое начальное состояние системы

что начиная из него система через время t придёт в состояние x. Это начальное состояние, очевидно, определяется формулой:

Если распределение энтропии H(x) над пространством X есть монотонно возрастающая функция, то в силу монотонности всех временных траекторий, описываемых уравнением (1), энтропия будет возрастать вдоль любой такой траектории. Однако, поскольку, как мы видели, в реальности существуют траектории, сопровождающиеся убыванием энтропии, то для большей адекватности модели можно представить себе такую функцию H(x), при которой траектории, сопровождающиеся убыванием энтропии, существуют, хотя и «в небольшом числе». Так функция
 (2)
(2)
(где a – некоторое положительное число) имеет минимум в точке

На интервале

она монотонно убывает от величины

до

а затем на интервале
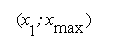
снова возрастает до

как показано в левой части рис. 1. Отношение мер классов

и

при этом будет равно

Например, при a=1 и

длина интервала

будет в 10 раз меньше, чем интервала

и, соответственно, вероятность убывания энтропии в системе будет в 10 раз меньше, чем вероятность её возрастания.

Рис. 1. Справа – временные траектории в фазовом пространстве, определяемые функцией (1). Слева – распределение энтропии над фазовым пространством, определяемое уравнением (2). Траектории, которые начинаются ниже красной пунктирной линии, соответствующей минимуму энтропии, по крайней мере, в течение некоторого времени сопровождаются уменьшением энтропии.
Изменение энтропии вдоль отдельных траекторий показано на рис. 2.

Рис. 2. Изменение энтропии вдоль отдельных временных траекторий системы в пространстве X×t. В правой части рисунка видно убывание энтропии в начале некоторых траекторий
Гриб А. А. Возможно ли движение назад во времени? // Природа, 1974, № 4, стр. 24 – 32.
Хокинг С. Краткая история времени: От Большого Взрыва до чёрных дыр (пер. с англ.). СПб: Амфора, 2007, 231 стр.
Эткинс П. Порядок и беспорядокв природе (пер. с англ.) М.: Мир, 1987, 224 стр.
Как подсказывает интуиция [и это подтверждается компьютерными экспериментами (Эткинс, 1987)], энтропия возрастает даже в сравнительно простых механических системах, описываемых законами Ньютона. Например, представим себе большой ящик с упругими стенками, внутри которого беспорядочно мечутся многочисленные очень маленькие упругие частицы. Для такой системы можно представить много разных процессов, которые будут являться проявлениями второго начала термодинамики. Скажем, если в начальный момент времени все частицы находятся в левой половине ящика, то можно предсказать, что их число в правой половине ящика будет со временем возрастать до тех пор, пока не станет примерно равным половине общего числа частиц, и дальше будет пребывать на близком уровне неограниченно долго. Или, скажем, если в начальный момент времени объём выпуклой оболочки всех частиц мал по сравнению с объёмом ящика, то можно предсказать, что со временем объём этой выпуклой оболочки будет возрастать до тех пор, пока не станет близким к объёму всего ящика, и дальше также неограниченно долго будет оставаться на уровне, близком к достигнутому.
На первый взгляд такое положение дел кажется парадоксальным, поскольку законы Ньютона инвариантны относительно направления времени: если в соответствующих уравнениях поменять направление времени на противоположное (параметр t заменить на –t), то сами уравнения останутся справедливыми. Таким образом, оказывается, что второе начало термодинамики не выводимо из законов Ньютона, и если рассматриваемая система описывается законами Ньютона исчерпывающим образом (зная координаты и скорости всех частиц в начальный момент времени, мы можем однозначно определить их координаты и скорости в любой последующий момент, а также в любой момент, предшествовавший начальному), то возникает вопрос: откуда в этой системе берётся необратимость времени?
Обратимость во времени законов Ньютона делает возможными такие процессы в системах, описываемых этими законами, которые сопровождаются уменьшением энтропии. В самом деле, пусть в начальный момент времени система находится в состоянии m, которое характеризуется энтропией H(m), а через некоторое время Δt она переходит в состояние n с большей энтропией, так что H(n) > H(m). Допустим также, что энтропия системы определяется только координатами частиц и не зависит от их скоростей (как в рассмотренных выше примерах с числом частиц в правой половине ящика и объёмом их выпуклой оболочки). Возьмём теперь состояние n и поменяем направления скоростей всех частиц на противоположные. Мы получим новое состояние системы n’, такое, что H(n’) = H(n). Если теперь состояние n’ рассмотреть в качестве начального, то в силу инвариантности законов Ньютона относительно направления времени система через время Δt придёт в состояние m’, которое будет отличаться от состояния m только скоростями частиц, но не их расположением. Следовательно, H(m’) = H(m) и H(m’) < H(n’). Таким образом, в рассматриваемой системе процесс, протекающий от состояния n’ к состоянию m’, сопровождается уменьшением энтропии.
Обычный ответ на рассуждения подобно рода заключается в указании на то, что второе начало термодинамики является не динамическим, а статистическим законом. Оно утверждает не то, что энтропия не может уменьшаться нигде и никогда, а лишь то, что такие процессы, сопровождающиеся уменьшением энтропии, весьма маловероятны. Но в каком смысле можно говорить о вероятности применительно к механическим системам рассматриваемого типа?
Если вероятность понижения энтропии в системе мала, то это значит, что начальных состояний, приводящих к уменьшению энтропии, в каком-то смысле «меньше», чем начальных состояний, приводящих к её увеличению. Если в ящике имеется N частиц, то множество возможных состояний системы Ω есть множество точек в некоторой области 6N-мерного пространства (каждая частица характеризуется 6 параметрами: 3-мя координатами самой частицы и 3-мя координатами вектора её скорости). Такое множество имеет мощность континуума. Следовательно, утверждение, что вероятность убывания энтропии в данной системе мала, подразумевает что на множестве Ω (фазовом пространстве) задана некая мера, такая, что множества состояний, приводящих к увеличению энтропии

и приводящих к её уменьшению

оказываются измеримыми. Для простоты и наглядности представим себе, что мы установили взаимно однозначное соответствие между фазовым пространством Ω и отрезком

и при этом все измеримые подмножества множества Ω соответствуют подмножествам отрезка Х, измеримым в смысле обычной меры длины.
Законы Ньютона всякому состоянию системы, рассматриваемому как начальное, и всякому интервалу времени Δt ставят в соответствие другое состояние, которого система достигает через время Δt. Таким образом, нельзя считать, что законы Ньютона обеспечивают полное и исчерпывающее описание системы. Они описывают лишь некий автоморфизм L(X) фазового пространства X, но они ничего не говорят о собственной структуре этого пространства и о распределении энтропии над ним. Автоморфизм L(X) должен обладать следующими свойствами:
1. В пространстве X всегда существуют «устойчивые» точки (в наших примерах они соответствуют состояниям системы, в которых скорости всех частиц равны 0), которые при любом Δt отображаются автоморфизмом L(X) только в самих себя. Тем не менее, поскольку система, вообще говоря, изменяется (по крайней мере, из некоторых начальных состояний), автоморфизм L(X) не является тождественным преобразованием.
2. Поскольку законы Ньютона обеспечивают не только однозначное предсказание состояния системы в будущем, но также и однозначную реконструкцию её состояния в прошлом, то автоморфизм L(X) должен быть изоморфизмом.
3. В силу однозначности предсказания и реконструкции временные траектории системы в пространстве X×t нигде не должны пересекаться.
4. Эти временные траектории, вообще говоря, не обязаны быть всюду непрерывными. В частности, они могут иметь точки разрыва в моменты соударения частиц друг с другом или со стенкой ящика, когда скорость частицы мгновенно меняет своё направление и, соответственно, можно считать, что в один и тот же момент времени частица имеет две разные скорости, а система находится в двух разных состояниях. Однако – опять же, из-за однозначности предсказания и реконструкции – все непрерывные участки временных траекторий (кроме «константных» траекторий, начинающихся из устойчивых состояний системы, о которых говорилось в п. 1) должны быть монотонными.
Можно придумать много разных функций

(где

начальное состояние системы в момент t = 0), удовлетворяющих перечисленным условиям. Например, будем считать, что «устойчивыми» являются только крайние точки: x = 0 и

а для любого x из интервала

автоморфизм L(X) определяется функцией:
 (1)
(1)Все такие функции будут непрерывными и монотонно возрастающими, как показано в правой части рис. 1. Вместе с тем их множество обеспечивает взаимно однозначное отображение интервала

на самого себя, т. к. для любого x, такого, что

и любого t можно указать такое начальное состояние системы

что начиная из него система через время t придёт в состояние x. Это начальное состояние, очевидно, определяется формулой:

Если распределение энтропии H(x) над пространством X есть монотонно возрастающая функция, то в силу монотонности всех временных траекторий, описываемых уравнением (1), энтропия будет возрастать вдоль любой такой траектории. Однако, поскольку, как мы видели, в реальности существуют траектории, сопровождающиеся убыванием энтропии, то для большей адекватности модели можно представить себе такую функцию H(x), при которой траектории, сопровождающиеся убыванием энтропии, существуют, хотя и «в небольшом числе». Так функция
 (2)
(2)(где a – некоторое положительное число) имеет минимум в точке

На интервале

она монотонно убывает от величины

до

а затем на интервале
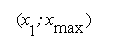
снова возрастает до

как показано в левой части рис. 1. Отношение мер классов

и

при этом будет равно

Например, при a=1 и

длина интервала

будет в 10 раз меньше, чем интервала

и, соответственно, вероятность убывания энтропии в системе будет в 10 раз меньше, чем вероятность её возрастания.

Рис. 1. Справа – временные траектории в фазовом пространстве, определяемые функцией (1). Слева – распределение энтропии над фазовым пространством, определяемое уравнением (2). Траектории, которые начинаются ниже красной пунктирной линии, соответствующей минимуму энтропии, по крайней мере, в течение некоторого времени сопровождаются уменьшением энтропии.
Изменение энтропии вдоль отдельных траекторий показано на рис. 2.

Рис. 2. Изменение энтропии вдоль отдельных временных траекторий системы в пространстве X×t. В правой части рисунка видно убывание энтропии в начале некоторых траекторий
Литература
Гриб А. А. Возможно ли движение назад во времени? // Природа, 1974, № 4, стр. 24 – 32.
Хокинг С. Краткая история времени: От Большого Взрыва до чёрных дыр (пер. с англ.). СПб: Амфора, 2007, 231 стр.
Эткинс П. Порядок и беспорядокв природе (пер. с англ.) М.: Мир, 1987, 224 стр.
суббота, 01 августа 2020
III. «Наивное время» в геологии
1. Принцип Стенона. Конкретный разрез и его расчленение
В основании стратиграфии, так же как многих других естественных наук, лежат три закона, которые Мейен [24] называл принципами, подчёркивая их важную методическую роль. В качестве первого (и исторически, и логически) из этих принципов следует назвать принцип Стенона. Как один из основополагающих принципов, на которых зиждется вся наука о геологическом времени, он почти единодушно рассматривается всеми теоретиками стратиграфии (см., например, [30; 35; 38]). Однако, формулируется он по-разному и, как мы увидим дальше, его формулировка, которая была бы одновременно и корректной, и плодотворной для стратиграфии, представляет собой достаточно трудную задачу.
Как уже отмечалось, Стенон был младшим современником Декарта и старшим современником Ньютона. К. В. Симаков [36] считает его основоположником особой «реляционно-генетической» концепции времени, отличной от «субстанциальной» концепции Ньютона. Но даже если это так, то следует признать, что данная концепция около 300 лет пребывала в забвении, поскольку в естествознании безраздельно господствовали наивные, ньютоновские представления о времени и даже все современные формулировки принципа Стенона, по-видимому, явно или неявно опираются на эти представления. В частности, мною [7, cтр. 120] была предложена следующая формулировка данного принципа. Любая область пространства, заполненная осадочной горной породой, является скалярным полем времени: каждой точке этой области может быть сопоставлена некоторая временнáя характеристика, обычно называемая возрастом и трактуемая как время образования породы в данной точке. «Кроме того, если рассматриваемая горная порода не претерпела за свою историю никаких пространственных перемещений (находится в ненарушенном залегании), то более молодые её части располагаются выше, чем более древние (возраст уменьшается при движении снизу вверх, против силы тяжести)».
Эта формулировка требует, по крайней мере, двух оговорок. Во-первых, в некоторых случаях принцип Стенона может быть распространен не только на осадочные горные породы, но также и на магматические или метаморфические. Задумываясь о его применимости, мы фактически сталкиваемся с вопросом о том, что может и что не может являться объектом стратиграфии. Вопрос этот довольно интенсивно обсуждался в стратиграфической литературе (см., например, [11; 39]), однако его подробное рассмотрение не входит в число наших задач. Поэтому здесь и далее мы ограничимся той областью, где принцип Стенона применим заведомо и всегда, т. е. той частью литосферы, которая сложена осадочными горными породами.
Во-вторых, «осадочное пространство», о котором идёт речь, обычно считается евклидовым, хотя, строго говоря, это не совсем верно. Осадочная горная порода имеет, как правило, довольно сложную структуру: она состоит из отдельных минеральных зерен, соединенных цементом, который в свою очередь тоже состоит из отдельных зерен, в ней присутствуют какие-то полости и т. д. Другими словами можно сказать, что для каждой точки рассматриваемого пространства существует некая минимальная окрестность определенного (не бесконечно малого) размера, внутри которой «содержимое» пространства уже не может рассматриваться как осадочная горная порода. Соответственно, рассмотрение окрестностей, меньших, чем минимальные, должно быть запрещено теорией, причем размеры минимальных окрестностей могут быть, вообще говоря, разными для разных точек. Все эти обстоятельства, вероятно, порождают в осадочном пространстве весьма своеобразную топологию, отличную от «нормальной» топологии, порождаемой евклидовой метрикой в евклидовом пространстве, однако, стратиграфы обычно пренебрегают всеми эффектами такого рода. Характерные размеры объектов, с которыми им приходится иметь дело, как правило, много больше, чем размеры минимальных окрестностей. Благодаря этому размеры минимальных окрестностей можно считать бесконечно малыми и использовать евклидово пространство для целей стратиграфии в качестве приемлемой геометрической модели.
Согласно принципу Стенона геологическое время спациировано или «опространствлено» [10; 23]. Другими словами можно сказать, что временные отношения между геологическими объектами явлены нам и познаются через их пространственные отношения.
В соответствии с принципом Стенона (в приведённой выше формулировке) через каждую точку пространства, заполненного осадочной горной породой, можно провести поверхность уровня, которую (коль скоро речь идёт о поле времени) естественно называть изохронной поверхностью. Кроме того, для каждой точки можно указать направление градиента времени, который будет нормальным к поверхности уровня. Собственно принцип Стенона гласит, что в некотором специальном, но достаточно часто встречающемся в природе случае, который называется ненарушенным залеганием, градиент времени в любой точке направлен вертикально вверх (против силы тяжести), а все изохронные поверхности представляют собой горизонтальные плоскости.
Иногда приходится слышать, что геологическое время имеет векторную природу, т. е. что оно само по себе как-то направлено в геологическом пространстве. Однако, всякий раз при попытке разобраться, что же при этом имеется в виду, выясняется, что в действительности речь идет не о самóм времени, а именно о его градиенте, т. е. модель скалярного поля, более простая, чем векторная модель, оказывается достаточной для описания тех ситуаций, с которыми на практике имеют дело стратиграфы.
Линия, в каждой своей точке касательная к градиенту времени, называется конкретным разрезом. При ненарушенном залегании конкретный разрез представляет собой вертикальную прямую, однако в более сложных случаях линия конкретного разреза может быть не вертикальной или даже вообще не прямой. Существует и другое понимание конкретного разреза – не как линии, а как поверхности, секущей какое-либо геологическое тело.
Первое из упомянутых пониманий конкретного разреза близко по смыслу к понятию разреза, введённому Салиным [34]. Этот автор, однако, вообще избегает говорить о времени и вводит разрез как понятие неопределяемое, поясняя, что разрез есть направленная прямая – вертикальная или такая, вдоль которой сохраняется та же последовательность слоёв, что и вдоль вертикали. Что такое слой, он, впрочем, не поясняет, считая, видимо, смысл этого понятия (как его концепт, так и денотат) достаточно очевидным и «загоняя» его в «неопределяемость» понятия «разрез». Теоретическая база стратиграфии, построенная таким образом, представляется мне излишне бедной, т. к. она полностью игнорирует такую важную и фундаментальную задачу стратиграфии как расчленение разрезов, решение которой, как мы сейчас увидим, теснейшим образом связано с понятием геологического времени и принципом Стенона. Кроме того, при различных нарушениях первичного залегания (как, например, в обнажении, изображенном на рисунке 1) вертикальная линия может следовать строго вдоль изохронной поверхности и, следовательно, не быть разрезом в нашем понимании (на языке Салина можно сказать, что вдоль такой линии не наблюдается никакой последовательности слоев и, таким образом, остается непонятным, какое отклонение от вертикали можно считать «допустимым» в данном случае).
Рис. 1. Вертикально ориентированная слоистость. Обнажение верхнепермских пород на левом берегу р. Купли у бывшей д. Ново-Александровка (Оренбургская обл.)

В соответствии с принципом Стенона в геологии принято различать два типа изменчивости осадочных горных пород. Изменчивость вдоль изохронной поверхности называется фациальной изменчивостью, и если она рассматривается как дискретная, то единица такой изменчивости называется фацией. Изменчивость вдоль градиента времени (или вдоль конкретного разреза в первом смысле) называется слоистостью, и если эта изменчивость рассматривается как дискретная, то единица такой изменчивости называется слоем {1}. Непреходящая и фундаментальная задача стратиграфии заключается в том, чтобы отличить слои от фаций. Она называется также задачей о расчленении разреза или задачей о реконструкции ненарушенного залегания и, очевидно, эквивалентна задаче определения в данном «осадочном пространстве» положения изохронных поверхностей и направления градиентов времени.
Важно отметить, что, несмотря на свою фундаментальность, задача о расчленении разреза не имеет универсального решения, пригодного для всех случаев жизни. Расчленение разреза – это своего рода искусство, сравнимое, например, с процедурой взятия неопределенного интеграла от функции в математическом анализе. Существует множество частных критериев для отличения слоев от фаций. Так довольно большая по научным меркам (больше пятисот страниц) книга Р. Шрока [45] от первой до последней строчки посвящена изложению различных критериев для определения направления градиента времени в осадочных породах. Однако каждый из этих критериев применим лишь для некоторого ограниченного класса ситуаций, а как решать задачу расчленения в общем случае, остается неизвестным.
Это обстоятельство представляется принципиальным, поскольку оно является одним из выражений той «неопределяемости» или логической первичности времени, о которой уже говорилось в разделе I.2. В самом деле, если бы существовал некий универсальный критерий расчленения разрезов, выразимый с помощью конечного текста, то его можно было бы принять за определение времени (по крайней мере, геологического). Но тот факт, что время полностью постижимо лишь на интуитивном уровне, выражается по отношению к рассматриваемой задаче в бесконечном разнообразии практических ситуаций, которое невозможно охватить каким-либо единым и конечно-выразимым методом рассмотрения, так что единственно универсальным способом решения задачи оказывается лишь обращение к интуиции.
Здесь, очевидно, неуместно пересказывать всю книгу Шрока, но об одном критерии, применимом и реально использующемся в подавляющем большинстве практических ситуаций, все же необходимо сказать, поскольку он накладывает существенный отпечаток на все геологические представления о времени, являясь, как мы увидим дальше, следствием некоторых весьма фундаментальных свойств геологического времени, обуславливающих в значительной степени его специфику по сравнению, например, со временем физическим. Критерий этот заключается в том, что слои по сравнению с фациями имеют, как правило, гораздо более резкие границы (при анализе распределения какого-либо параметра вдоль произвольной траектории в «осадочном пространстве» оказывается, что модуль производной этого параметра на границе двух слоев имеет ярко выраженный максимум), которые, к тому же, расположены параллельно друг другу.
Этот критерий настолько часто применяется в геологической практике, что некоторые авторы склонны рассматривать его как определение понятия слоя. Например (Сапфиров, 1974, цит. по [28, c. 330]): «Слой – геологическое тело плитообразной формы, имеющее сравнительно небольшую толщину и значительную протяженность, которое образовано осадочной породой, отличающейся по каким-либо признакам (чаще всего по составу или цвету) от смежных слоев разреза». Понятие времени при таком подходе оказывается производным от понятия слоя, как это фактически имеет место в упоминавшейся выше концепции Салина [34]. Однако, поскольку рассматриваемый (как и всякий другой) критерий слоистости не является универсальным, данный подход неоправданно сужает объектную область стратиграфии, исключая из нее реально существующие неслоистые (в смысле Г. Н. Сапфирова) толщи, для которых, тем не менее, оказываются возможными те или иные датировки.
По-видимому, именно в силу обсуждаемого критерия слоистости геологи склонны рассматривать (для целей стратиграфии) изменчивость осадочных горных пород как дискретную и оперировать при рассуждениях о времени с дискретными единицами, имеющими четкие границы, внутри которых эти единицы могут считаться относительно однородными. Описания конкретных разрезов (как в первом, так и во втором смысле) выглядят большей частью как конечные последовательности слоев. Именно поэтому процедура выделения временнóй составляющей в осадочном пространстве носит название расчленения вне зависимости от того, чтó понимается под конкретным разрезом.
Различие же между двумя пониманиями выявляется в том, что при первом подходе мы полностью абстрагируемся от фациальной изменчивости каждого слоя, тогда как в рамках второго подхода она может так или иначе описываться и учитываться в дальнейших рассуждениях.
Утверждать, однако, что геологическое время в целом дискретно, - значит очень сильно упрощать ситуацию. Ниже мы еще вернемся к этой теме, а здесь отметим лишь то обстоятельство, что процедура расчленения разреза может быть продолжена, вообще говоря, до бесконечности. В самом деле, каждый выделенный слой может сам по себе рассматриваться как область пространства, заполненная осадочной горной породой, и как таковая может так же быть подвергнут расчленению на более дробные слои. «Слоистая» структура геологического времени имеет фрактальный характер (рис. 2).
Рис. 2. Разные масштабы слоистости в верхнепермских отложениях Русской платформы
а – левый берег р. Сухоны напротив д. Опоки (Вологодская обл.); б – оползневое тело на правом берегу р. Волги между селами Кзыл-Байрак и Теньки (республика Татарстан) (из книги [4, cтр. 116]); в – обнажение на левом берегу р. Сухоны напротив д. Вострое (Вологодская обл.); г – образец аргиллита из обнажения на правом берегу р. Сакмары близ д. Новокульчумово (Оренбургская обл.), цена деления линейки – 1 мм; д – образец аргиллита из обнажения у д. Чепаниха (Удмуртская республика), длина линейки – 1 мм

2. Принципы Смита-Гексли и Мейена. Сопоставление разрезов и МСШ
Со вторым и третьим принципами стратиграфии связано введение понятия синхронности и решение второй фундаментальной стратиграфической задачи, называемой задачей о сопоставлении или корреляции разрезов. Эти принципы позволяют сопоставлять или сравнивать друг с другом разные разрезы, т. е. считать некие слои или границы между слоями одного разреза синхронными каким-либо слоям или, соответственно, границам другого разреза.
Второй принцип стратиграфии называется принципом гомотаксальности, и Мейен [24] считает его автором Т. Гексли. Однако, еще до Гексли тот же принцип, по существу, был сформулирован У. Смитом в виде широко известного утверждения, что синхронные слои содержат одинаковые таксоны ископаемых организмов [30]. Это утверждение, очевидно, равносильно утверждению о синхронности двух границ, если на них обеих появляется или исчезает какой-нибудь таксон или, более широко, вообще какой-нибудь признак (рис. 3а). Гексли же только наложил на этот принцип ограничение, заключающееся в том, что корреляция, основанная на появлении или исчезновении, т. е. на таких признаках как «присутствие – отсутствие», не очень достоверна и ей следует (если это возможно) предпочитать корреляцию, основанную на одинаковых последовательностях «ненулевых» признаков, например, на смене в разрезе одного комплекса ископаемых организмов другим или, в пределе, одного таксона другим [24]. Таким образом, принцип гомотаксальности, если иметь в виду его автора, следует, видимо, именовать не принципом Гексли (как это делает Мейен), а принципом Смита-Гексли.
Рис. 3. Сопоставление (синхронизация) разрезов: а – на основании принципа Смита-Гексли, б – на основании принципа Мейена, в – на основании принципа Дарвина
E, F, G, H, I, J, K, L, M, N – стратоны; α, β, γ, δ, ε, ζ – стратиграфические признаки; коррелируемые границы между стратонами соединены пунктирными линиями

Третий принцип стратиграфии, иногда называемый принципом хронологической взаимозаменяемости признаков, был впервые отчетливо сформулирован самим Мейеном и по справедливости носит его имя. Этот принцип гласит, что отношение геологической синхронности обладает свойством транзитивности вне зависимости от тех признаков, по которым эта синхронность была установлена. Так, если мы установили синхронность слоев (или границ) K и L на основании признака α, а синхронность слоев (или границ) L и M– на основании признака β, то слои (соответственно, границы) K и M также синхронны друг другу даже в том случае, если никаких общих признаков у них не наблюдается (рис. 3б).
Принятие принципа Мейена в качестве одного из основополагающих принципов стратиграфии означает признание его первичности или невыводимости из каких-либо других положений, в частности, из каких-либо общих свойств геологического времени. Само геологическое время, таким образом, оказывается вторичным понятием по отношению к признакам слоев: оно выводится из этих признаков и не существует независимо от них. Оперирование с разными типами признаков может естественно порождать разные «типы стратиграфий» - биостратиграфию, литостратиграфию, магнитостратиграфию и т. д. Однако, рассмотрение наряду с ними «хроностратиграфии», на котором настаивает, например, Х. Д. Хедберг [23], абсурдно, т. к. времени, независимого ни от каких признаков, просто не существует. Слово «хроностратиграфия» представляет собой плеоназм (оно столь же избыточно, как, скажем, «геогеология»), поскольку всякая стратиграфия является «хроно» (т. е. исследует временные отношения между геологическими объектами), будучи наукой о геологическом времени.
В процессе сопоставления конкретных разрезов можно легко заметить аналогию с синхронизацией процессов, описанной в разделе I.2, и, таким образом, геологическая синхронность оказывается частным случаем «синхронности вообще». В результате применения этой процедуры возникает новое (абстрактное) понятие – «фактор-разрез». Такие «фактор-разрезы» получили в стратиграфии название сводных разрезов, а их элементы (классы синхронности слоев) – стратонов. На практике, однако, сопоставляются обычно не сами конкретные разрезы, а их описания, которые (как уже отмечалось) носят характер конечных последовательностей слоев. В результате сводные разрезы так же представляют собой конечные последовательности стратонов. Каждому стратону, как правило, присваивается собственное имя.
Сводные разрезы можно так же сопоставлять друг с другом, как и конкретные. В результате такого сопоставления может иногда возникнуть новый «фактор-разрез» (разрез более высокого «порядка сводности»), но в других случаях происходит как бы «поглощение» одного разреза другим. Такое поглощение называется датировкой или привязкой к шкале «поглощаемого» разреза. На множестве сводных разрезов существует как бы иерархия «конкретности-сводности». Если сопоставляемые разрезы относятся к одному уровню этой иерархии, то возникает новый разрез более высокого уровня сводности, по отношению к которому сопоставляемые разрезы выступают как конкретные. Если же сопоставляемые разрезы относятся к разным уровням рассматриваемой иерархии, то разрез более высокого уровня «поглощает» разрез более низкого и называется в этом случае стратиграфической шкалой. Понятие стратиграфической шкалы, таким образом, есть понятие относительное, оно неразрывно связано с «иерархией конкретности-сводности» и выражает асимметричное отношение «поглощения» одного разреза другим при их сопоставлении. Например, Н. Н. Форш [40] описал разрез отложений татарского яруса по р. Вятке. По отношению к региональной шкале татарского яруса, принятой для всей Русской платформы, этот разрез несомненно является конкретным, а по отношению к разрезу обнажения в устье р. Дмитриевки он столь же несомненно является сводным и служит для него шкалой («шкалой Форша»), к которой это обнажение может быть привязано.
Подобно тому, как существуют «абсолютно конкретные» разрезы (линии в земной коре), существует и «абсолютно сводный» разрез, поглощающий любой другой с ним сопоставляемый. Такой «абсолютно сводный» разрез называется международной стратиграфической шкалой (МСШ). Иерархия «конкретности-сводности» разрезов имеет, следовательно, вид отрезка (множества бесконечного, но ограниченного), у которого есть два конца (МСШ и линия в каждой своей точке касательная к градиенту времени) и бесконечное множество положений, промежуточных между ними.
Таким образом, стратоны в нашем понимании суть абстрактные понятия – таксоны {2} слоев. В этом понимании стратонов заключается, вероятно, самое главное отличие излагаемой здесь концепции от стратиграфической концепции Мейена, нашедшей также отражение в «Стратиграфическом кодексе» [39]. Мейен [24] (см. также [29]) рассматривал стратоны как конкретные геологические тела – остатки некогда существовавших экосистем, которые обладали целостностью, в том числе и пространственно-временной. Всякая наблюдаемая ныне пространственная «несвязность» стратонов, по мнению Мейена, вторична и случайна (она есть следствие вторичного разрушения геологических тел), а сопоставление разрезов есть реконструкция, т. е. восстановление некогда нарушенной связности.
Такое понимание стратонов и корреляционных процедур основывалось на безусловном противопоставлении таксономии, изучающей отношения типа «элемент-множество», и мерономии, предметом которой являются отношения типа «часть-целое» [26]. В свете этого противопоставления очевидно, что операция реконструкции носит мерономический характер. А поскольку стратиграфическую корреляцию, по крайней мере, в некоторых случаях (как, например, при корреляции разрезов, обнаженных по разным бортам одного и того же оврага) действительно можно рассматривать как реконструкцию, то из этого Мейеном делался вывод, что сопоставление разрезов всегда является процедурой мерономической.
Можно, однако, заметить, что любая мерономическая процедура является одновременно и таксономической (например, расчленяя какое-нибудь целое геологическое тело на отдельные части-слои, мы тем самым задаем классификацию минеральных зерен, из которых это тело состоит, основанную на отношении «принадлежать одному и тому же слою»), так что мерономия представляет собой частный случай таксономии. С другой стороны, возможны такие ситуации, когда коррелируемые стратоны заведомо не могут рассматриваться как части одного геологического тела (существующего сейчас или существовавшего в прошлом). Например, никто не рассматривает в качестве частей одного геологического тела динант Западной Европы и миссисиппий Северной Америки, которые, тем не менее, объединяются в единый стратон МСШ, именуемый нижним карбоном. Объединение в данном случае осуществляется на основании принципа Смита-Гексли, который апеллирует к идеальному сходству сопоставляемых стратонов и ничего не говорит об их материальной связности. Таким образом, процедура стратиграфической корреляции может рассматриваться как мерономическая лишь в некоторых случаях, а как таксономическая – всегда. А поскольку нашей целью является построение общей теории стратиграфии, то мы должны рассматривать корреляционную процедуру в общем виде и, следовательно, приписывать стратонам статус абстрактных понятий, а не конкретных геологических тел. В этом развиваемая мной [7] концепция близка точке зрения А. В. Попова, подчеркивавшего, что «…стратоны и их последовательности, которые являются результатом человеческой деятельности, представляют из себя условные абстрактные единицы стратиграфического времени, хотя и основаны на конкретных (материальных) объектах» [30, c. 106].
3. Измерение «наивного» времени в геологии. Стратиграфический парадокс
В разделе I.3 ситуация, сложившаяся к настоящему времени в стратиграфии, была охарактеризована как парадоксальная ввиду огромного числа конкурирующих теоретико-стратиграфических концепций. Мне представляется, что эта парадоксальность коренится даже не в «дискуссионном поле», т. е. не в сфере взаимодействия различных концепций, выставляемых для обсуждения, а глубже – внутри каждой из них. Все точки зрения, бытовавшие до настоящего времени в теории стратиграфии (или, по крайней мере, большинство из них), так или иначе сталкивались с некоторым парадоксом, который, однако, не осознавался их авторами. Ощущая интуитивно существование какого-то противоречия, они стремились вынести его «вовне», в сферу столкновения с другими точками зрения, что порождало лишь нескончаемые и бесплодные споры, нимало не способствуя выработке какой-либо универсальной концепции, которая могла бы стать общепризнанной (т. е. парадигмы).
Мейен, вероятно, ближе других авторов подошел к осознанию этого парадокса, в качестве формулировки которого можно рассматривать мейеновское положение о том, что «С помощью имеющихся стратиграфических шкал мы не можем ничего измерить…» [24, cтр. 27]. Парадоксальность данного утверждения очевидна в свете теории измерений, где понятия шкалы и измерения являются фактически тождественными (см. раздел I.1), и только незнакомство с этой теорией помешало Мейену осознать внутреннюю противоречивость декларируемого им самим тезиса. В связи с этим характерно также название книги Попова [30] «Измерение геологического времени», в которой ни слова не говорится о действительных числах – основе (с позиций теории измерений) всякой измерительной процедуры.
Очевидно, что оба автора интуитивно чувствовали сходство, существующее между стратиграфическими шкалами (сводными разрезами) и «шкалами-измерениями» теории измерений (Мейен выражал это сходство словом «шкала», а Попов – словом «измерение»), но не считали это сходство достаточно полным, чтобы рассматривать шкалы (или измерения) геологического времени в качестве частного случая «шкал (соответственно, измерений) вообще», как они рассматриваются в теории измерений. Для того чтобы понять, что же есть общего и в чем различия между стратиграфическими шкалами с одной стороны и «шкалами вообще» с другой, попробуем измерить (по всем канонам теории измерений) геологическое время в том виде, как оно было описано в двух предыдущих разделах.
Легко видеть, что процедура построения сводного разреза в результате сопоставления конкретных разрезов есть не что иное, как приведение эмпирической системы, элементами которой являются стратоны (или слои) конкретных разрезов. Синхронные стратоны при этом, очевидно, выступают как конгруэнтные элементы данной системы, а сводный разрез, возникающий в результате такого сопоставления, может уже рассматриваться в качестве системы неприводимой. Очевидно также, что отношения между стратонами конкретного разреза, сохраняющиеся в сводном разрезе при такой процедуре приведения (и, следовательно, являющиеся системообразующими в рассматриваемых эмпирических системах) суть отношения порядка. В стратиграфической практике они обычно выражаются словами «до», «после», «раньше», «позже», «моложе», «древнее». Эти отношения можно очень легко выразить через отношение порядка между действительными числами (отношение «меньше»), если каким-нибудь образом занумеровать стратоны сводного разреза «снизу вверх», т. е. от более древних к более молодым. Подобная нумерация уже применяется кое-где в стратиграфии (например, для обозначения отделов внутри систем МСШ), хотя гораздо чаще в качестве собственных имен стратонов используются существительные или прилагательные: палеоцен, ордовик, сухонская свита, зона Virgatites virgatus и т. д. Ясно, однако, что поскольку названия стратонов совершенно условны, то процедура их переименования может быть легко произведена кем угодно и суть геохронологической шкалы от этого не изменится.
На практике (из-за потенциальной бесконечности расчленения конкретных разрезов – см. раздел III.1) удобнее нумеровать даже не сами стратоны, а границы между ними. Тогда именем каждого стратона будет не одно число, а пара чисел, одно из которых соответствует его нижней, а другое – верхней границе. Если разрез будет затем детализироваться, т. е. в результате дальнейшего расчленения конкретных разрезов в нем появятся новые, промежуточные границы, то это не потребует перенумерации всех остальных границ, а новые границы могут получить соответствующие «промежуточные» (в общем случае дробные) номера. Например, если нижней границе некоторого стратона поставлено в соответствие число 2, а верхней – число 3, то сам этот стратон будет обозначаться как (2; 3). Если в дальнейшем в результате детализации шкалы он будет расчленен, скажем, на три части, то эти части будут обозначаться соответственно как (2; 7/3), (7/3; 8/3 ) и (8/3; 3). Соответствие между отношениями «раньше-позже» и «больше-меньше» при этом, очевидно, во всех случаях сохранится.
Важно отметить, что номера границ при описанном гомоморфизме всегда будут выражаться рациональными числами и, следовательно, их множество не более чем счетно, как бы дробно мы не расчленяли разрез. Связано это с тем, что хотя конкретный разрез и представляет собой отрезок прямой или дугу кривой линии (т. е. множество точек континуальной мощности), но границы в нем всегда являются результатами применения финитной операции расчленения.
Из всего сказанного можно сделать вывод, уже анонсированный в конце раздела I.1, а также в примечании {2}: стратиграфические шкалы, рассматриваемые в свете теории измерений, являются шкалами порядка. Это положение, вероятно, наиболее рельефно выражает и сходство, и отличия, существующие между геологическим временем и большинством других физических величин: все эти величины измеримы (т. е. для них можно построить шкалы), но большинство физических величин (и физическое время в том числе) измеряются в шкалах интервалов или отношений, а геологическое время – в более «слабых» шкалах порядка. По-видимому, это обстоятельство и имел в виду Мейен, утверждая, что с помощью стратиграфических шкал ничего нельзя измерить: измерения по аналогии с большинством физических величин он мыслил лишь в шкалах, более «сильных», чем шкалы порядка.
Приведенное описание стандартных стратиграфических процедур на языке теории измерений позволяет более четко сформулировать и то противоречие, которое выше было названо стратиграфическим парадоксом. В самом деле, если геологическое время «устроено», в принципе, так же, как и всякое другое (роль процессов в нем играют конкретные разрезы, а роль синхронизации – корреляция на основе принципов Смита-Гексли и Мейена), то почему оно измеряется в шкалах другого типа, чем время физическое? Основное отличие «наивного времени вообще» (см. раздел I.2) от геологического времени можно усмотреть в отношении эквилататности, которое присутствует в часах и сохраняется при синхронизации, но, по-видимому, отсутствует (или не принимается во внимание?) в стратиграфических шкалах. Аналогами часов в стратиграфии можно считать абсолютно конкретные разрезы, которые мы определили как некоторые линии в евклидовом пространстве, заполненном осадочной горной породой. Но для любой такой линии отношение эквилататности между ее точками может быть задано вполне естественным образом в силу «тройного изоморфизма» Ньютона {3}!
Таким образом, рассматриваемый парадокс можно сформулировать в следующем виде. С одной стороны, геологическое время спациировано, а с другой – оно измеряется в шкалах порядка. Шкалы порядка не допускают рассмотрения в качестве адекватных таких отношений как эквилататность (как было показано в разделе II.2, на множестве действительных чисел существуют такие монотонные и непрерывные преобразования, которые не сохраняют отношения равенства двух разностей), хотя между временем и пространством существует изоморфизм, в рамках которого такие отношения сохраняются.
Для того чтобы преодолеть это противоречие, нам придётся более детально рассмотреть топологическую структуру геологического времени и выйти за пределы концепции «наивного» времени.
IV. Принцип Дарвина. Реальная структура геологического времени
На вопрос о том, почему отношение эквилататности не сохраняется при синхронизации двух конкретных разрезов, можно дать лишь «философский» ответ – такова эмпирическая реальность. Когда в главе II мы рассматривали «наивное» время, то одно из отношений, существенное для него, – отношение порядка – сохранялось используемыми методами синхронизации (через процесс «я») в силу нашей интуиции, тогда как сохранение другого – отношения эквилататности – устанавливалось эмпирически: мы знаем о существовании большого числа процессов (часов), которые протекают равномерно друг относительно друга; эта относительная равномерность есть один из аспектов общности данных процессов, выражаемой самим понятием «время», поэтому отношение эквилататности оказывается «системообразующим» для соответствующей эмпирической системы. При рассмотрении же геологического времени применяются другие методы синхронизации, основанные на принципах Смита-Гексли и Мейена. Сохранение отношения порядка в этом случае постулируется: если в сопоставляемых разрезах наблюдается разный порядок анализируемых признаков, то такая ситуация рассматривается как нарушение гомотаксальности, а соответствующие признаки – как непригодные для корреляции данных разрезов. Что касается отношения эквилататности, то его сохранение при геологической синхронизации – скорее исключение, чем правило (рис. 4).
Рис. 4. Сопоставление мощностей одновозрастных стратонов в двух коррелируемых разрезах
Мощности (в метрах), измеренные в одном разрезе, отложены по горизонтальной оси, а в другом – по вертикальной. Маркерами помечено положение изохронных границ. Если бы между моментами времени, соответствующими точкам каждого из разрезов, выполнялось отношение эквилататности (скорость осадконакопления была бы постоянной), то все маркеры ложились бы на прямую линию, которая для наглядности также проведена на каждом из графиков. Тот факт, что реальные кривые, показывающие соотношение мощностей, сильно отличаются от прямых, свидетельствует о несохранении эквилататности при корреляции разрезов
а – две скважины, вскрывшие отложения татарского яруса в бассейне р. Сухоны; б – сводные разрезы татарского яруса по рекам Сухоне и Вятке

Обычно этот эмпирический факт обозначается утверждением, что скорость осадконакопления в каждом конкретном разрезе не есть величина постоянная и вообще характер ее зависимости от времени, как правило, не известен {4}. Для корректного описания ситуаций, однако, достаточно допустить, что хотя бы в некоторых точках некоторых разрезов эта скорость равна нулю, т. е. что эти разрезы не являются непрерывными.
Ч. Дарвин был, вероятно, первым, кто обратил особое внимание на прерывистость осадконакопления как принципиальный стратиграфический факт, накладывающий отпечаток на фундаментальные свойства геологического времени. Подробному рассмотрению этого факта посвящена специальная глава «Происхождения видов» (10-ая в 6-ом лондонском издании 1872 г.), которая носит название «О неполноте геологической летописи» (цит. по русскому изданию [9]). Соответственно, принцип Дарвина или принцип неполноты геологической летописи рассматривается рядом авторов [32; 38] как один из основополагающих принципов стратиграфии, хотя другие [24; 30] оспаривают его фундаментальность. Сказанного выше о несохранении эквилататности при геологической синхронизации, вероятно, достаточно для того, чтобы осознать необходимость включения принципа Дарвина в число основных (необходимых и достаточных) стратиграфических принципов.
Строго говоря, принципом Дарвина описывается некоторая специальная ситуация нарушения гомотаксальности, в которой, однако (вопреки принципу Смита-Гексли), сопоставление разрезов оказывается возможным. А именно: если в одном разрезе наблюдается последовательность признаков α→β→γ, а в другом – α→γ, то эти разрезы могут быть сопоставлены таким образом, как это показано на рисунке 3в. При этом с границей F/E второго разреза синхронизируется не одна, а две границы первого (L/K и M/L), а про стратон L, характеризующийся признаком β, говорится, что он «выпадает» из второго разреза или «соответствует перерыву» в нем. Выпадение стратонов или перерыв может, вообще говоря, ожидаться на любой границе любого разреза, но при этом только на границе, т. к. выявить этот перерыв можно лишь путем корреляции данного разреза с другим, более полным, где присутствует «выпадающий» стратон.
Наличием перерывов, по-видимому, объясняется та резкость границ между слоями (в сравнении с фациальными границами), о которой говорилось в разделе III.1. Поскольку эта резкость является критерием расчленения разреза, то утверждение о наличии перерыва (актуально или потенциально наблюдаемого) на любой границе можно прочитать «в обратную сторону»: при расчленении разреза границы между стратонами можно проводить лишь на тех уровнях, где допустимо наличие перерыва. В связи с этим абсолютно бессмысленной выглядит рекомендация Международной стратиграфической комиссии [46, пункт 4.1.2] выбирать стратотипы границ МСШ в непрерывных разрезах. Выбранные таким образом границы невозможно проследить никуда за пределами эталонного конкретного разреза, и они не имеют даже права называться границами, будучи всего лишь точками на линии, соответствующей этому разрезу.
Если считать, что один из сопоставляемых конкретных разрезов является абсолютно полным (т. е. выпадение стратонов наблюдается только во втором разрезе), то кажется, что процедуру корреляции можно рассматривать как отображение второго разреза в первый. Однако, это неверно. Дело в том, что множество «граничных» точек в каждом разрезе имеет счетную мощность, хотя и является уплотненным (оно возникает в результате применения финитных процедур расчленения, хотя множество таких процедур может быть и бесконечным – см. раздел III.1), а множество всех точек разреза имеет, очевидно, мощность континуума. Без потери общности можно считать, что в каждом разрезе рассматриваются лишь рациональные точки {5} (вспомним результат, полученный в разделе III.3: при нумерации стратиграфических границ им всегда соответствуют только рациональные числа). Корреляцию иррациональных точек можно было бы осуществить с помощью предельного перехода: если иррациональная точка L второго разреза является пределом последовательности рациональных точек

каждой из которых поставлена в соответствие некоторая рациональная точка первого разреза

где f – предполагаемое отображение второго разреза в первый, то точке L можно поставить в соответствие ту точку, которая является пределом последовательности точек

Однако, в силу принципа Дарвина предполагаемое отображение не может быть непрерывным, поэтому в общем случае предел последовательности

не существует и образ точки L в первом разрезе остается неопределенным.
Можно предложить и другое «доказательство методом от противного» того факта, что геологическое время имеет иную топологическую структуру, чем «наивное». В самом деле, если пытаться описать геологическое время в терминах «ньютоновского изоморфизма», то время, запечатленное в абсолютно конкретном разрезе, в силу принципа Дарвина оказывается изоморфным не отрезку вещественной прямой, а канторовскому дисконтинууму {6}, в котором существуют точки двух типов – односторонние и двусторонние. Множество односторонних точек счетно, и среди них есть такие пары (M; N), что между точками M и N нет никаких точек, принадлежащих данному дисконтинууму. Что же касается двусторонних точек, то их множество имеет мощность континуума и между любыми двумя двусторонними точками найдутся как односторонние, так и двусторонние точки. Канторов дисконтинуум есть нигде не плотное множество, которое, однако, не содержит изолированных точек.
Аналогично в абсолютно конкретном разрезе можно различать точки двух типов – «граничные», т. е. соответствующие (хотя бы потенциально) границам стратонов, и «внутренние», которые ни при каком расчленении не окажутся лежащими на какой бы то ни было границе. Хотя множество граничных точек и бесконечно (в силу потенциальной бесконечности расчленения разрезов), но оно имеет лишь счетную мощность, тогда множество внутренних точек (так же, как и весь конкретный разрез) имеет мощность континуума. При сопоставлении разрезов синхронными могут считаться лишь (некоторые) граничные точки, тогда как о синхронности внутренних точек ничего сказать нельзя. Геологическое время в целом «возникает» в результате обобщения процедуры корреляции, поэтому мы должны считать, что оно состоит из моментов, соответствующих лишь коррелируемым точкам конкретных разрезов, и таким образом, представляет собой счётное множество моментов.
Описанная выше структура абсолютно конкретного разреза заставляет нас пересмотреть и формулировку принципа Стенона, данную в разделе III.1, а вместе с ней – и само понятие конкретного разреза. Такие понятия, как скалярное поле времени и градиент этого поля подразумевают наличие у времени «нормальной» топологической структуры (т. е. соответствующей «наивной» ньютоновской концепции) и, следовательно, измеримость времени в шкале интервалов. Иная же структура времени и иной тип шкалы для его измерения, вытекающие из принципа Дарвина, вынуждают и к иному описанию пространственно-временных отношений в земной коре, с наблюдения которых по существу начинается всякое стратиграфическое исследование {7}. Из понятий, рассматривавшихся в разделе III.1, мы можем теперь сохранить, пожалуй, лишь понятие изохронной поверхности, да и то, утверждение о том, что такую поверхность можно провести через каждую точку пространства, заполненного осадочной горной породой, следует признать неверным.
В свете согласования с принципом Дарвина (и преодоления «стратиграфического парадокса») можно дать здесь следующую новую формулировку принципа Стенона:
В любой области пространства, заполненной осадочной горной породой, существует счетное множество изохронных поверхностей (т. е. поверхностей, все точки которых синхронны друг другу). Если рассматриваемая горная порода не претерпела за свою историю никаких пространственных перемещений (находится в ненарушенном залегании), то все эти поверхности представляют собой горизонтальные (нормальные к силе тяжести и, следовательно, параллельные друг другу) плоскости.
Конкретным разрезом при этом можно называть любую линию, нормальную ко всем изохронным поверхностям, которые она пересекает, а слоем – единицу изменчивости горной породы при прослеживании ее вдоль конкретного разреза.
Поскольку шкалы порядка определяются как инвариантные относительно любых монотонных непрерывных преобразований [31], то «прерывистость» конкретных разрезов, постулируемая принципом Дарвина, может показаться препятствием для измерения геологического времени даже в шкалах порядка. Однако, отсутствие непрерывности (в топологическом смысле) проявляется существенным образом лишь при корреляции конкретных разрезов, т. е. на стадии «приведения» эмпирической системы. Именно эта процедура «приведения» заставляет нас перейти от рассмотрения континуальных отрезков или дуг с отношениями эквилататности (абсолютно конкретных разрезов) к счетным множествам без таких отношений. В результате геологическое время в целом, рассматриваемое как неприводимая система, оказывается счетным множеством моментов, единственным «системообразующим» отношением на котором является отношение строгого порядка «раньше». Согласно лемме 4.2.1 И. Пфанцагля [31, стр. 76] шкала порядка существует для всякой линейно упорядоченной эмпирической системы, имеющей счетную мощность. Но является ли геологическое время линейно упорядоченным?
Салин [34] считает, что границы стратонов МСШ окружают всю Землю, создавая стратиграфическую структуру земной коры, подобную вернеровской «луковице». Несомненно, что в рамках таких представлений геологическое время (по крайней мере, измеряемое МСШ) линейно упорядочено: из любых двух различных границ одна всегда либо древнее, либо моложе другой. Однако, Мейен [24] обратил внимание на то, что в действительности мы наблюдаем в земной коре принципиально другую стратиграфическую структуру: из-за фациальной изменчивости резкость каждой границы между слоями может меняться при переходе от одного конкретного разреза к другому вплоть до ее (границы) полного исчезновения. Рисунок 5 иллюстрирует это положение для слоев, выделяемых по литологическим критериям, однако оно оказывается справедливым и при использовании любых других стратиграфических признаков.
Рис. 5. Глинистые прослои, «растворяющиеся» в толще песчаников. Обнажение верхнепермских пород на правом берегу р. Малая Северная Двина у пристани Аристово (Вологодская обл.)

В схематическом виде данное положение, также иллюстрируется рисунком 6, из которого хорошо видно, что реальная стратиграфическая структура земной коры на вернеровскую «луковицу» походит очень мало. И дело здесь не только в том, что некоторые границы упираются друг в друга (как, например, граница L упирается в границу M, а граница V – в границу J), знаменуя наличие перерывов. Гораздо интереснее другой факт, подмеченный Мейеном: при трассировании изохронных поверхностей граничные точки одного конкретного разреза могут оказаться соответствующими внутренним точкам другого разреза. Это значит, что при корреляции, даже если ограничиться лишь рассмотрением граничных точек, среди них будут существовать как «коррелируемые», так и «некоррелируемые», т. е такие, которым в другом разрезе не может быть сопоставлена никакая точка, как бы дробно этот второй разрез не расчленялся. Например, обращаясь к рис. 6, мы можем сказать, что граница X разреза 2 моложе границы J и древнее границы H разреза 1, но ничего не можем сказать о ее временных отношениях с границей I.
Рис. 6. Типичная наблюдаемая стратиграфическая структура земной коры
1, 2 – разрезы; E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, T, U, V, W, X, Y – границы

Понятно, что это порождает весьма сложную пространственную структуру геологического времени. Можно сказать, что оно «течет» по-разному в разных географических точках. Как должна быть устроена шкала такого «многоколейного» времени, сказать трудно. В практической стратиграфии эта трудность преодолевается с помощью введения так называемых региональных стратиграфических шкал (РСШ), т. е. сводных разрезов, корреляция которых друг с другом проблематична, а может быть, и вообще невозможна. Таким образом, вместо единственного, но «многоколейного» времени стратиграфы предпочитают рассматривать множество геологических времен, каждое из которых характеризуется определенной географической привязкой и измеряется с помощью своей собственной шкалы. Поскольку основная наша задача – анализ измерения геологического времени (или, что то же самое, анализ стратиграфических шкал), то и мы будем следовать этой традиции, считая, что всякая РСШ есть инструмент измерения времени, которое, впрочем, может быть иным для другой РСШ.
Таким образом, каждый сводный разрез можно рассматривать как отдельное время, моменты которого (классы синхронных коррелируемых точек конкретных разрезов), естественно, линейно упорядочены. Всякое такое время, как уже отмечалось, может быть измерено с помощью шкалы порядка, и всякой стратиграфической шкале (РСШ или МСШ) может быть сопоставлена шкала (порядка) в смысле теории измерений.
V. Заключение
Подведем некоторые итоги.
Для адекватного и точного описания «наивного» (т. е. изоморфного множеству действительных чисел и направленной прямой линии) ньютоновского времени необходимо и достаточно рассмотрения на множестве его моментов двух отношений: бинарного отношения строгого порядка, обычно выражаемого словом «раньше», и четырехместного отношения эквилататности, соответствующего интуитивным представлениям о равенстве временных интервалов. Геологическое время имеет иную топологическую структуру, чем «наивное» время (не гомеоморфно ему).
Несмотря на спациированность (в соответствии с принципом Стенона) геологического времени, конкретные разрезы (линии в земной коре) в силу принципа Дарвина не изоморфны тем интервалам времени, которые в них отражаются. В каждом конкретном разрезе можно различать точки двух типов – граничные и внутренние. Оба множества этих точек являются уплотненными, но множество граничных точек счетно, а множество внутренних точек континуально (здесь имеется полная аналогия с рациональными и иррациональными точками вещественной прямой). Среди граничных точек можно при корреляции с другим разрезом так же различать два типа: точки коррелируемые и некоррелируемые. Множество коррелируемых точек как подмножество счетного множества граничных точек всегда не более чем счётно.
Таким образом, геологическое время, которое трактуется мною как «фактор-разрез» (т. е. строится на основании сопоставления конкретных разрезов друг с другом), оказывается не изоморфным какой-либо линии в пространстве и, следовательно, – множеству действительных чисел. Множество моментов геологического времени имеет счетную мощность (а не мощность континуума) и может быть сопоставлено лишь с множеством рациональных чисел. Кроме того, для моментов геологического времени в общем случае не осмыслено отношение эквилататности, являющееся обязательным атрибутом «наивных» представлений о времени.
Описанные отличия геологического времени от «наивного» выступают наиболее рельефно в процедуре измерения. Стратиграфические шкалы, с помощью которых измеряется геологическое время, могут рассматриваться лишь как шкалы порядка, тогда как «наивное» время (так же, как и физическое) традиционно измеряется в шкалах интервалов.
Непонимание этого обстоятельства большинством теоретиков стратиграфии порождало «стратиграфический парадокс», присутствовавший в той или иной форме в каждой из предлагавшихся теоретико-стратиграфических концепций. Осознание и преодоление этого парадокса позволяет надеяться и на преодоление противоречий, до сих пор раздирающих теоретическую стратиграфию, и построение теории, которая могла бы стать стратиграфической парадигмой.
Примечания
{1} Наличие фациальной (т. е. принципиально не связанной со временем) изменчивости у осадочных горных пород не позволяет нам принять мейеновского определения времени, согласно которому время есть изменчивость индивида [25; 29]. Это определение представляется недостаточным, употребленное в нем слово «изменчивость» нуждается в спецификации: какая именно изменчивость индивида является временем? Но задумываясь над этим вопросом, мы не находим никакого ответа кроме тавтологического: «временнáя». Таким образом, мы снова возвращаемся, к той августиновско-кантовской тавтологии, о которой шла речь в разделе I.2.
{2} Следует, однако, помнить, что употребление слова «таксон» в данном контексте не вполне корректно. Дело в том, что это слово имплицитно содержит в себе апелляцию к систематике живых организмов, которая, в некотором смысле, «устроена» существенно проще, чем стратиграфические шкалы [6]. С точки зрения теории измерений биологические классификации являются шкалами наименований (см. раздел I.1). Для них существенны лишь отношения принадлежности к одному или к разным таксонам. Стратиграфические же шкалы (или стратиграфические классификации, как их иногда называют – см. [20; 23] и др.), как мы увидим ниже, являются шкалами порядка: помимо принадлежности к одному или к разным стратонам сводного разреза для них существен порядок следования этих стратонов друг за другом внутри шкалы. Таким образом, стратиграфические шкалы богаче отношениями, чем биологические классификации, и, соответственно, имеют более узкий класс допустимых преобразований.
{3} Более строго: отношение эквилататности было определено нами на множестве моментов времени, на множестве действительных чисел ему соответствует отношение, определяемое равенством разностей двух пар чисел, а на множестве точек какой-либо кривой – равенством двух дуг этой кривой (в случае прямой линии - равенством двух отрезков).
{4} Понятие скорости (производной по времени) трудно определить в условиях, когда время измеряется в шкале порядка, однако, можно ввести в рассмотрение некоторый эталонный конкретный разрез, скорость осадконакопления в котором постоянна по определению, а скорости осадконакопления во всех других разрезах определять через сопоставление (обычными стратиграфическими методами) с этим эталоном.
{5} Их множество также является счетным и уплотненным.
{6} Рассмотрим отрезок KL. Разделим его каким-нибудь образом на три части, например, - KM, MN и NL и «выбросим» (исключим из дальнейшего рассмотрения) внутренние точки отрезка MN. У нас вместо одного отрезка получится два: KM и NL. Поступим с каждым из них таким же образом, как мы поступили с отрезком KL. Получим четыре отрезка, например, - KE, FM, NU и VL. Множество точек, которое получится в результате применения этой процедуры бесконечное число раз, называется канторовым дисконтинуумом. О свойствах этого во многих отношениях замечательного множества, которое, кстати, является одним из простейших примеров фрактала, можно более подробно прочитать, например, в учебнике П. С. Александрова [1]. Вероятно, именно такую «фрактальную прерывистость» геологического времени и имел в виду Дарвин (рассуждавший, разумеется, исключительно в рамках «наивных» представлений о времени) в знаменитом фрагменте 10-й главы «Происхождения видов»: «Что касается меня, то, следуя метафоре Ляйеля, я смотрю на геологическую летопись как на историю мира, не вполне сохранившуюся и написанную на менявшемся языке, историю, из которой у нас имеется только один последний том, касающийся только двух или трех стран. От этого тома сохранилась лишь в некоторых местах краткая глава, и на каждой странице только местами уцелело по нескольку строчек» [9, стр. 289 – 290].
{7} Данное обстоятельство можно также рассматривать в качестве проявления «стратиграфического парадокса», описанного в разделе III.3: начав построение теории с понятия скалярного поля времени, мы пришли в конце концов к невозможности его использования.
Библиография
1. Александров П. С. Введение в теорию множеств и общую топологию. М.: Наука, 1977, 367 стр.
2. Аронов Р. А., Угаров В. А. Пространство, время и законы сохранения // Природа, 1978, № 10, стр. 99 – 104.
3. Блаженный Августин. Исповедь // Творения блаженного Августина Епископа Иппонийского. Ч. 1. Издание третье, Киев, 1914, стр. 1 – 442 (фототипическое издание изд-ва «Жизнь с Богом», Брюссель, 1974).
4. Геологические памятники природы Республики Татарстан. Казань: Акварель-Арт, 2007, 295 стр.
5. Гильберт Д. Основания геометрии. М. – Л., ОГИЗ, Государственное изд-во технико-теоретической литературы, 1948, 491 стр.
6. Гоманьков А. В. Основные проблемы расчленения и корреляции континентальных толщ (на примере перми и триаса Ангариды) // Пути детализации стратиграфических схем и палеогеографических реконструкций. М.: ГЕОС, 2001а, стр. 234 – 240.
7. Гоманьков А. В. Теоретическая стратиграфия в работах С. В. Мейена // Материалы симпозиума, посвященного памяти С. В. Мейена (1935 – 1987), Москва, 25 – 26 декабря 2000 года. М.: ГЕОС, 2001б, стр. 71 – 76.
8. Грюнбаум А. Философские проблемы пространства и времени. Издание третье. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010, 574 стр.
9. Дарвин Ч. Происхождение видов путем естественного отбора или сохранение благоприятных рас в борьбе за жизнь (перев. с англ.). СПб: Наука, 1991, 539 стр.
10. Драгунов В. И. Онтологические аспекты геологии // Проблемы развития советской геологии. Л.: Недра, 1971, стр. 85 – 101 (Тр. ВСЕГЕИ, новая серия, т. 177).
11. Жамойда А. И. Сергей Викторович Мейен и теоретическая стратиграфия (к 60-летию со дня рождения) // Стратиграфия. Геологическая корреляция, 1995, т. 3, № 4, стр. 83 – 94.
12. Ивин А. А. Логика времени // Неклассическая логика. М.: Наука, 1970, стр. 124 – 190.
13. Кант И. Критика чистого разума. СПб, 1867, 627 стр.
14. Клини С. К. Введение в метаматематику. М.: Изд-во иностранной литературы, 1957, 526 стр.
15. Клини С. К. Математическая логика. М.: Мир, 1973, 480 стр.
16. Котов В. Н. Применение теории измерений в биологических исследованиях. Киев: Наукова думка, 1985, 100 стр.
17. Кузнецов В. И., Идлис Т. М., Гутина В. И. Естествознание. М.: Агар, 1996, 384 стр.
18. Кузнецов Г. А. Трактат о часах // Теория логического вывода. М.: Наука, 1973, стр. 228 – 248.
19. Кун Т. Структура научных революций. М.: АСТ, Ермак, 2003, стр. 5 – 311.
20. Леонов Г. П. Основы стратиграфии. Т. 1. М.: МГУ, 1973, 530 стр.
21. Майоров Г. Г. Формирование средневековой философии. Латинская патристика. М.: Мысль, 1979, 431 стр.
22. Манин Ю. И. Теорема Гёделя // Природа, 1975, № 12, стр. 80 – 87.
23. Международный стратиграфический справочник. Руководство по стратиграфической классификации, терминологии и их применению. М.: Мир, 1978, 228 стр.
24. Мейен С. В. Введение в теорию стратиграфии. М.: Наука, 1989, 215 стр.
25. Мейен С. В. Понятие времени и типология объектов (на примере биологии и геологии) // Эволюция материи и её структурные уровни. М.: Наука, 1983, стр. 311 – 317.
26. Мейен С. В. Таксономия и мерономия // Вопросы методологии в геологических науках. Киев: Наукова думка, 1977, стр. 25 – 33.
27. Никитин С. Н., Чернышев Ф. Н. Международный геологический конгресс и его последние сессии в Берлине и Лондоне // Геологический журнал, 1889, т. I, № 1, стр. 114 – 150.
28. Общая стратиграфия (терминологический справочник). Хабаровск, 1979, 842 стр.
29. Оноприенко В. И. Письма С. В. Мейена к К. В. Симакову // Памяти Сергея Викторовича Мейена (к 70-летию со дня рождения). Труды Международной палеоботанической конференции. Москва, 17 – 18 мая 2005. Вып. 3. М.: ГЕОС, 2005, стр. 78 – 102.
30. Попов А. В. Измерение геологического времени. Принципы стратиграфии и закономерности эволюции. Учебное пособие. СПб: СПбГУ, 2003, 143 стр.
31. Пфанцагль И. Теория измерений. М.: Мир, 1976, 248 стр.
32. Садыков А. М. Идеи рациональной стратиграфии. Алма-Ата: Наука, 1974, 182 стр.
33. Салин Ю. С. Нелогическая геология во времена Г. Спенсера и в наши дни // Вопросы методологии в геологических науках. Киев: Наукова думка, 1977, стр. 121 – 128.
34. Салин Ю. С. Стратиграфия: порядок и хаос. Владивосток: Дальнаука, 1994, 221 стр.
35. Симаков К. В. Об основных принципах теоретической стратиграфии // Изв. АН СССР, сер. геол., 1989, № 10, стр. 17 – 23.
36. Симаков К. В. К проблеме естественнонаучного определения времени. Магадан, 1994, 108 стр.
37. Спенсер Г. Нелогическая геология // Собр. соч., т. 3. СПб, 1866, стр. 277 – 335.
38. Степанов Д. Л., Месежников М. С. Общая стратиграфия (Принципы и методы стратиграфических исследований). Л.: Недра, 1979, 423 стр.
39. Стратиграфический кодекс. Издание второе, дополненное. СПб, 1992, 120 стр.
40. Форш Н. Н. О стратиграфическом расчленении и корреляции разрезов татарского яруса востока Русской платформы по комплексу литолого-стратиграфических, палеомагнитных и палеонтологических данных // Палеомагнитные стратиграфические исследования. Сборник статей. Л., Гостоптехиздат, стр. 175 – 211 (Тр. ВНИГРИ, вып. 204).
41. Фрагменты ранних греческих философов. Часть I. От эпических теокосмогоний до возникновения атомистики. М.: Наука, 1989, 576 стр.
42. Хасанов И. А. Физическое время. М., 1999, 49 стр.
43. Цифровое кодирование систематических признаков древних организмов. М.: Наука, 1972, 188 стр.
44. Шрейдер Ю. А. Равенство, сходство, порядок. М.: Наука, 1971, 254 стр.
45. Шрок Р. Последовательность в свитах слоистых пород. М.: Изд-во иностранной литературы, 1950, 564 стр.
46. Remane J., Bassett M. G., Cowie J. W., Gohrbandt K. H., Lane H. R., Michelsen O., Wang Naiweng. Guidelines for the establishment of global chronostratigraphic standarts by the International Commission on Stratigraphy (ICS) (Revised) // Permophiles, 1996, № 29, pp. 25 – 30.
1. Принцип Стенона. Конкретный разрез и его расчленение
В основании стратиграфии, так же как многих других естественных наук, лежат три закона, которые Мейен [24] называл принципами, подчёркивая их важную методическую роль. В качестве первого (и исторически, и логически) из этих принципов следует назвать принцип Стенона. Как один из основополагающих принципов, на которых зиждется вся наука о геологическом времени, он почти единодушно рассматривается всеми теоретиками стратиграфии (см., например, [30; 35; 38]). Однако, формулируется он по-разному и, как мы увидим дальше, его формулировка, которая была бы одновременно и корректной, и плодотворной для стратиграфии, представляет собой достаточно трудную задачу.
Как уже отмечалось, Стенон был младшим современником Декарта и старшим современником Ньютона. К. В. Симаков [36] считает его основоположником особой «реляционно-генетической» концепции времени, отличной от «субстанциальной» концепции Ньютона. Но даже если это так, то следует признать, что данная концепция около 300 лет пребывала в забвении, поскольку в естествознании безраздельно господствовали наивные, ньютоновские представления о времени и даже все современные формулировки принципа Стенона, по-видимому, явно или неявно опираются на эти представления. В частности, мною [7, cтр. 120] была предложена следующая формулировка данного принципа. Любая область пространства, заполненная осадочной горной породой, является скалярным полем времени: каждой точке этой области может быть сопоставлена некоторая временнáя характеристика, обычно называемая возрастом и трактуемая как время образования породы в данной точке. «Кроме того, если рассматриваемая горная порода не претерпела за свою историю никаких пространственных перемещений (находится в ненарушенном залегании), то более молодые её части располагаются выше, чем более древние (возраст уменьшается при движении снизу вверх, против силы тяжести)».
Эта формулировка требует, по крайней мере, двух оговорок. Во-первых, в некоторых случаях принцип Стенона может быть распространен не только на осадочные горные породы, но также и на магматические или метаморфические. Задумываясь о его применимости, мы фактически сталкиваемся с вопросом о том, что может и что не может являться объектом стратиграфии. Вопрос этот довольно интенсивно обсуждался в стратиграфической литературе (см., например, [11; 39]), однако его подробное рассмотрение не входит в число наших задач. Поэтому здесь и далее мы ограничимся той областью, где принцип Стенона применим заведомо и всегда, т. е. той частью литосферы, которая сложена осадочными горными породами.
Во-вторых, «осадочное пространство», о котором идёт речь, обычно считается евклидовым, хотя, строго говоря, это не совсем верно. Осадочная горная порода имеет, как правило, довольно сложную структуру: она состоит из отдельных минеральных зерен, соединенных цементом, который в свою очередь тоже состоит из отдельных зерен, в ней присутствуют какие-то полости и т. д. Другими словами можно сказать, что для каждой точки рассматриваемого пространства существует некая минимальная окрестность определенного (не бесконечно малого) размера, внутри которой «содержимое» пространства уже не может рассматриваться как осадочная горная порода. Соответственно, рассмотрение окрестностей, меньших, чем минимальные, должно быть запрещено теорией, причем размеры минимальных окрестностей могут быть, вообще говоря, разными для разных точек. Все эти обстоятельства, вероятно, порождают в осадочном пространстве весьма своеобразную топологию, отличную от «нормальной» топологии, порождаемой евклидовой метрикой в евклидовом пространстве, однако, стратиграфы обычно пренебрегают всеми эффектами такого рода. Характерные размеры объектов, с которыми им приходится иметь дело, как правило, много больше, чем размеры минимальных окрестностей. Благодаря этому размеры минимальных окрестностей можно считать бесконечно малыми и использовать евклидово пространство для целей стратиграфии в качестве приемлемой геометрической модели.
Согласно принципу Стенона геологическое время спациировано или «опространствлено» [10; 23]. Другими словами можно сказать, что временные отношения между геологическими объектами явлены нам и познаются через их пространственные отношения.
В соответствии с принципом Стенона (в приведённой выше формулировке) через каждую точку пространства, заполненного осадочной горной породой, можно провести поверхность уровня, которую (коль скоро речь идёт о поле времени) естественно называть изохронной поверхностью. Кроме того, для каждой точки можно указать направление градиента времени, который будет нормальным к поверхности уровня. Собственно принцип Стенона гласит, что в некотором специальном, но достаточно часто встречающемся в природе случае, который называется ненарушенным залеганием, градиент времени в любой точке направлен вертикально вверх (против силы тяжести), а все изохронные поверхности представляют собой горизонтальные плоскости.
Иногда приходится слышать, что геологическое время имеет векторную природу, т. е. что оно само по себе как-то направлено в геологическом пространстве. Однако, всякий раз при попытке разобраться, что же при этом имеется в виду, выясняется, что в действительности речь идет не о самóм времени, а именно о его градиенте, т. е. модель скалярного поля, более простая, чем векторная модель, оказывается достаточной для описания тех ситуаций, с которыми на практике имеют дело стратиграфы.
Линия, в каждой своей точке касательная к градиенту времени, называется конкретным разрезом. При ненарушенном залегании конкретный разрез представляет собой вертикальную прямую, однако в более сложных случаях линия конкретного разреза может быть не вертикальной или даже вообще не прямой. Существует и другое понимание конкретного разреза – не как линии, а как поверхности, секущей какое-либо геологическое тело.
Первое из упомянутых пониманий конкретного разреза близко по смыслу к понятию разреза, введённому Салиным [34]. Этот автор, однако, вообще избегает говорить о времени и вводит разрез как понятие неопределяемое, поясняя, что разрез есть направленная прямая – вертикальная или такая, вдоль которой сохраняется та же последовательность слоёв, что и вдоль вертикали. Что такое слой, он, впрочем, не поясняет, считая, видимо, смысл этого понятия (как его концепт, так и денотат) достаточно очевидным и «загоняя» его в «неопределяемость» понятия «разрез». Теоретическая база стратиграфии, построенная таким образом, представляется мне излишне бедной, т. к. она полностью игнорирует такую важную и фундаментальную задачу стратиграфии как расчленение разрезов, решение которой, как мы сейчас увидим, теснейшим образом связано с понятием геологического времени и принципом Стенона. Кроме того, при различных нарушениях первичного залегания (как, например, в обнажении, изображенном на рисунке 1) вертикальная линия может следовать строго вдоль изохронной поверхности и, следовательно, не быть разрезом в нашем понимании (на языке Салина можно сказать, что вдоль такой линии не наблюдается никакой последовательности слоев и, таким образом, остается непонятным, какое отклонение от вертикали можно считать «допустимым» в данном случае).
Рис. 1. Вертикально ориентированная слоистость. Обнажение верхнепермских пород на левом берегу р. Купли у бывшей д. Ново-Александровка (Оренбургская обл.)

В соответствии с принципом Стенона в геологии принято различать два типа изменчивости осадочных горных пород. Изменчивость вдоль изохронной поверхности называется фациальной изменчивостью, и если она рассматривается как дискретная, то единица такой изменчивости называется фацией. Изменчивость вдоль градиента времени (или вдоль конкретного разреза в первом смысле) называется слоистостью, и если эта изменчивость рассматривается как дискретная, то единица такой изменчивости называется слоем {1}. Непреходящая и фундаментальная задача стратиграфии заключается в том, чтобы отличить слои от фаций. Она называется также задачей о расчленении разреза или задачей о реконструкции ненарушенного залегания и, очевидно, эквивалентна задаче определения в данном «осадочном пространстве» положения изохронных поверхностей и направления градиентов времени.
Важно отметить, что, несмотря на свою фундаментальность, задача о расчленении разреза не имеет универсального решения, пригодного для всех случаев жизни. Расчленение разреза – это своего рода искусство, сравнимое, например, с процедурой взятия неопределенного интеграла от функции в математическом анализе. Существует множество частных критериев для отличения слоев от фаций. Так довольно большая по научным меркам (больше пятисот страниц) книга Р. Шрока [45] от первой до последней строчки посвящена изложению различных критериев для определения направления градиента времени в осадочных породах. Однако каждый из этих критериев применим лишь для некоторого ограниченного класса ситуаций, а как решать задачу расчленения в общем случае, остается неизвестным.
Это обстоятельство представляется принципиальным, поскольку оно является одним из выражений той «неопределяемости» или логической первичности времени, о которой уже говорилось в разделе I.2. В самом деле, если бы существовал некий универсальный критерий расчленения разрезов, выразимый с помощью конечного текста, то его можно было бы принять за определение времени (по крайней мере, геологического). Но тот факт, что время полностью постижимо лишь на интуитивном уровне, выражается по отношению к рассматриваемой задаче в бесконечном разнообразии практических ситуаций, которое невозможно охватить каким-либо единым и конечно-выразимым методом рассмотрения, так что единственно универсальным способом решения задачи оказывается лишь обращение к интуиции.
Здесь, очевидно, неуместно пересказывать всю книгу Шрока, но об одном критерии, применимом и реально использующемся в подавляющем большинстве практических ситуаций, все же необходимо сказать, поскольку он накладывает существенный отпечаток на все геологические представления о времени, являясь, как мы увидим дальше, следствием некоторых весьма фундаментальных свойств геологического времени, обуславливающих в значительной степени его специфику по сравнению, например, со временем физическим. Критерий этот заключается в том, что слои по сравнению с фациями имеют, как правило, гораздо более резкие границы (при анализе распределения какого-либо параметра вдоль произвольной траектории в «осадочном пространстве» оказывается, что модуль производной этого параметра на границе двух слоев имеет ярко выраженный максимум), которые, к тому же, расположены параллельно друг другу.
Этот критерий настолько часто применяется в геологической практике, что некоторые авторы склонны рассматривать его как определение понятия слоя. Например (Сапфиров, 1974, цит. по [28, c. 330]): «Слой – геологическое тело плитообразной формы, имеющее сравнительно небольшую толщину и значительную протяженность, которое образовано осадочной породой, отличающейся по каким-либо признакам (чаще всего по составу или цвету) от смежных слоев разреза». Понятие времени при таком подходе оказывается производным от понятия слоя, как это фактически имеет место в упоминавшейся выше концепции Салина [34]. Однако, поскольку рассматриваемый (как и всякий другой) критерий слоистости не является универсальным, данный подход неоправданно сужает объектную область стратиграфии, исключая из нее реально существующие неслоистые (в смысле Г. Н. Сапфирова) толщи, для которых, тем не менее, оказываются возможными те или иные датировки.
По-видимому, именно в силу обсуждаемого критерия слоистости геологи склонны рассматривать (для целей стратиграфии) изменчивость осадочных горных пород как дискретную и оперировать при рассуждениях о времени с дискретными единицами, имеющими четкие границы, внутри которых эти единицы могут считаться относительно однородными. Описания конкретных разрезов (как в первом, так и во втором смысле) выглядят большей частью как конечные последовательности слоев. Именно поэтому процедура выделения временнóй составляющей в осадочном пространстве носит название расчленения вне зависимости от того, чтó понимается под конкретным разрезом.
Различие же между двумя пониманиями выявляется в том, что при первом подходе мы полностью абстрагируемся от фациальной изменчивости каждого слоя, тогда как в рамках второго подхода она может так или иначе описываться и учитываться в дальнейших рассуждениях.
Утверждать, однако, что геологическое время в целом дискретно, - значит очень сильно упрощать ситуацию. Ниже мы еще вернемся к этой теме, а здесь отметим лишь то обстоятельство, что процедура расчленения разреза может быть продолжена, вообще говоря, до бесконечности. В самом деле, каждый выделенный слой может сам по себе рассматриваться как область пространства, заполненная осадочной горной породой, и как таковая может так же быть подвергнут расчленению на более дробные слои. «Слоистая» структура геологического времени имеет фрактальный характер (рис. 2).
Рис. 2. Разные масштабы слоистости в верхнепермских отложениях Русской платформы
а – левый берег р. Сухоны напротив д. Опоки (Вологодская обл.); б – оползневое тело на правом берегу р. Волги между селами Кзыл-Байрак и Теньки (республика Татарстан) (из книги [4, cтр. 116]); в – обнажение на левом берегу р. Сухоны напротив д. Вострое (Вологодская обл.); г – образец аргиллита из обнажения на правом берегу р. Сакмары близ д. Новокульчумово (Оренбургская обл.), цена деления линейки – 1 мм; д – образец аргиллита из обнажения у д. Чепаниха (Удмуртская республика), длина линейки – 1 мм

2. Принципы Смита-Гексли и Мейена. Сопоставление разрезов и МСШ
Со вторым и третьим принципами стратиграфии связано введение понятия синхронности и решение второй фундаментальной стратиграфической задачи, называемой задачей о сопоставлении или корреляции разрезов. Эти принципы позволяют сопоставлять или сравнивать друг с другом разные разрезы, т. е. считать некие слои или границы между слоями одного разреза синхронными каким-либо слоям или, соответственно, границам другого разреза.
Второй принцип стратиграфии называется принципом гомотаксальности, и Мейен [24] считает его автором Т. Гексли. Однако, еще до Гексли тот же принцип, по существу, был сформулирован У. Смитом в виде широко известного утверждения, что синхронные слои содержат одинаковые таксоны ископаемых организмов [30]. Это утверждение, очевидно, равносильно утверждению о синхронности двух границ, если на них обеих появляется или исчезает какой-нибудь таксон или, более широко, вообще какой-нибудь признак (рис. 3а). Гексли же только наложил на этот принцип ограничение, заключающееся в том, что корреляция, основанная на появлении или исчезновении, т. е. на таких признаках как «присутствие – отсутствие», не очень достоверна и ей следует (если это возможно) предпочитать корреляцию, основанную на одинаковых последовательностях «ненулевых» признаков, например, на смене в разрезе одного комплекса ископаемых организмов другим или, в пределе, одного таксона другим [24]. Таким образом, принцип гомотаксальности, если иметь в виду его автора, следует, видимо, именовать не принципом Гексли (как это делает Мейен), а принципом Смита-Гексли.
Рис. 3. Сопоставление (синхронизация) разрезов: а – на основании принципа Смита-Гексли, б – на основании принципа Мейена, в – на основании принципа Дарвина
E, F, G, H, I, J, K, L, M, N – стратоны; α, β, γ, δ, ε, ζ – стратиграфические признаки; коррелируемые границы между стратонами соединены пунктирными линиями

Третий принцип стратиграфии, иногда называемый принципом хронологической взаимозаменяемости признаков, был впервые отчетливо сформулирован самим Мейеном и по справедливости носит его имя. Этот принцип гласит, что отношение геологической синхронности обладает свойством транзитивности вне зависимости от тех признаков, по которым эта синхронность была установлена. Так, если мы установили синхронность слоев (или границ) K и L на основании признака α, а синхронность слоев (или границ) L и M– на основании признака β, то слои (соответственно, границы) K и M также синхронны друг другу даже в том случае, если никаких общих признаков у них не наблюдается (рис. 3б).
Принятие принципа Мейена в качестве одного из основополагающих принципов стратиграфии означает признание его первичности или невыводимости из каких-либо других положений, в частности, из каких-либо общих свойств геологического времени. Само геологическое время, таким образом, оказывается вторичным понятием по отношению к признакам слоев: оно выводится из этих признаков и не существует независимо от них. Оперирование с разными типами признаков может естественно порождать разные «типы стратиграфий» - биостратиграфию, литостратиграфию, магнитостратиграфию и т. д. Однако, рассмотрение наряду с ними «хроностратиграфии», на котором настаивает, например, Х. Д. Хедберг [23], абсурдно, т. к. времени, независимого ни от каких признаков, просто не существует. Слово «хроностратиграфия» представляет собой плеоназм (оно столь же избыточно, как, скажем, «геогеология»), поскольку всякая стратиграфия является «хроно» (т. е. исследует временные отношения между геологическими объектами), будучи наукой о геологическом времени.
В процессе сопоставления конкретных разрезов можно легко заметить аналогию с синхронизацией процессов, описанной в разделе I.2, и, таким образом, геологическая синхронность оказывается частным случаем «синхронности вообще». В результате применения этой процедуры возникает новое (абстрактное) понятие – «фактор-разрез». Такие «фактор-разрезы» получили в стратиграфии название сводных разрезов, а их элементы (классы синхронности слоев) – стратонов. На практике, однако, сопоставляются обычно не сами конкретные разрезы, а их описания, которые (как уже отмечалось) носят характер конечных последовательностей слоев. В результате сводные разрезы так же представляют собой конечные последовательности стратонов. Каждому стратону, как правило, присваивается собственное имя.
Сводные разрезы можно так же сопоставлять друг с другом, как и конкретные. В результате такого сопоставления может иногда возникнуть новый «фактор-разрез» (разрез более высокого «порядка сводности»), но в других случаях происходит как бы «поглощение» одного разреза другим. Такое поглощение называется датировкой или привязкой к шкале «поглощаемого» разреза. На множестве сводных разрезов существует как бы иерархия «конкретности-сводности». Если сопоставляемые разрезы относятся к одному уровню этой иерархии, то возникает новый разрез более высокого уровня сводности, по отношению к которому сопоставляемые разрезы выступают как конкретные. Если же сопоставляемые разрезы относятся к разным уровням рассматриваемой иерархии, то разрез более высокого уровня «поглощает» разрез более низкого и называется в этом случае стратиграфической шкалой. Понятие стратиграфической шкалы, таким образом, есть понятие относительное, оно неразрывно связано с «иерархией конкретности-сводности» и выражает асимметричное отношение «поглощения» одного разреза другим при их сопоставлении. Например, Н. Н. Форш [40] описал разрез отложений татарского яруса по р. Вятке. По отношению к региональной шкале татарского яруса, принятой для всей Русской платформы, этот разрез несомненно является конкретным, а по отношению к разрезу обнажения в устье р. Дмитриевки он столь же несомненно является сводным и служит для него шкалой («шкалой Форша»), к которой это обнажение может быть привязано.
Подобно тому, как существуют «абсолютно конкретные» разрезы (линии в земной коре), существует и «абсолютно сводный» разрез, поглощающий любой другой с ним сопоставляемый. Такой «абсолютно сводный» разрез называется международной стратиграфической шкалой (МСШ). Иерархия «конкретности-сводности» разрезов имеет, следовательно, вид отрезка (множества бесконечного, но ограниченного), у которого есть два конца (МСШ и линия в каждой своей точке касательная к градиенту времени) и бесконечное множество положений, промежуточных между ними.
Таким образом, стратоны в нашем понимании суть абстрактные понятия – таксоны {2} слоев. В этом понимании стратонов заключается, вероятно, самое главное отличие излагаемой здесь концепции от стратиграфической концепции Мейена, нашедшей также отражение в «Стратиграфическом кодексе» [39]. Мейен [24] (см. также [29]) рассматривал стратоны как конкретные геологические тела – остатки некогда существовавших экосистем, которые обладали целостностью, в том числе и пространственно-временной. Всякая наблюдаемая ныне пространственная «несвязность» стратонов, по мнению Мейена, вторична и случайна (она есть следствие вторичного разрушения геологических тел), а сопоставление разрезов есть реконструкция, т. е. восстановление некогда нарушенной связности.
Такое понимание стратонов и корреляционных процедур основывалось на безусловном противопоставлении таксономии, изучающей отношения типа «элемент-множество», и мерономии, предметом которой являются отношения типа «часть-целое» [26]. В свете этого противопоставления очевидно, что операция реконструкции носит мерономический характер. А поскольку стратиграфическую корреляцию, по крайней мере, в некоторых случаях (как, например, при корреляции разрезов, обнаженных по разным бортам одного и того же оврага) действительно можно рассматривать как реконструкцию, то из этого Мейеном делался вывод, что сопоставление разрезов всегда является процедурой мерономической.
Можно, однако, заметить, что любая мерономическая процедура является одновременно и таксономической (например, расчленяя какое-нибудь целое геологическое тело на отдельные части-слои, мы тем самым задаем классификацию минеральных зерен, из которых это тело состоит, основанную на отношении «принадлежать одному и тому же слою»), так что мерономия представляет собой частный случай таксономии. С другой стороны, возможны такие ситуации, когда коррелируемые стратоны заведомо не могут рассматриваться как части одного геологического тела (существующего сейчас или существовавшего в прошлом). Например, никто не рассматривает в качестве частей одного геологического тела динант Западной Европы и миссисиппий Северной Америки, которые, тем не менее, объединяются в единый стратон МСШ, именуемый нижним карбоном. Объединение в данном случае осуществляется на основании принципа Смита-Гексли, который апеллирует к идеальному сходству сопоставляемых стратонов и ничего не говорит об их материальной связности. Таким образом, процедура стратиграфической корреляции может рассматриваться как мерономическая лишь в некоторых случаях, а как таксономическая – всегда. А поскольку нашей целью является построение общей теории стратиграфии, то мы должны рассматривать корреляционную процедуру в общем виде и, следовательно, приписывать стратонам статус абстрактных понятий, а не конкретных геологических тел. В этом развиваемая мной [7] концепция близка точке зрения А. В. Попова, подчеркивавшего, что «…стратоны и их последовательности, которые являются результатом человеческой деятельности, представляют из себя условные абстрактные единицы стратиграфического времени, хотя и основаны на конкретных (материальных) объектах» [30, c. 106].
3. Измерение «наивного» времени в геологии. Стратиграфический парадокс
В разделе I.3 ситуация, сложившаяся к настоящему времени в стратиграфии, была охарактеризована как парадоксальная ввиду огромного числа конкурирующих теоретико-стратиграфических концепций. Мне представляется, что эта парадоксальность коренится даже не в «дискуссионном поле», т. е. не в сфере взаимодействия различных концепций, выставляемых для обсуждения, а глубже – внутри каждой из них. Все точки зрения, бытовавшие до настоящего времени в теории стратиграфии (или, по крайней мере, большинство из них), так или иначе сталкивались с некоторым парадоксом, который, однако, не осознавался их авторами. Ощущая интуитивно существование какого-то противоречия, они стремились вынести его «вовне», в сферу столкновения с другими точками зрения, что порождало лишь нескончаемые и бесплодные споры, нимало не способствуя выработке какой-либо универсальной концепции, которая могла бы стать общепризнанной (т. е. парадигмы).
Мейен, вероятно, ближе других авторов подошел к осознанию этого парадокса, в качестве формулировки которого можно рассматривать мейеновское положение о том, что «С помощью имеющихся стратиграфических шкал мы не можем ничего измерить…» [24, cтр. 27]. Парадоксальность данного утверждения очевидна в свете теории измерений, где понятия шкалы и измерения являются фактически тождественными (см. раздел I.1), и только незнакомство с этой теорией помешало Мейену осознать внутреннюю противоречивость декларируемого им самим тезиса. В связи с этим характерно также название книги Попова [30] «Измерение геологического времени», в которой ни слова не говорится о действительных числах – основе (с позиций теории измерений) всякой измерительной процедуры.
Очевидно, что оба автора интуитивно чувствовали сходство, существующее между стратиграфическими шкалами (сводными разрезами) и «шкалами-измерениями» теории измерений (Мейен выражал это сходство словом «шкала», а Попов – словом «измерение»), но не считали это сходство достаточно полным, чтобы рассматривать шкалы (или измерения) геологического времени в качестве частного случая «шкал (соответственно, измерений) вообще», как они рассматриваются в теории измерений. Для того чтобы понять, что же есть общего и в чем различия между стратиграфическими шкалами с одной стороны и «шкалами вообще» с другой, попробуем измерить (по всем канонам теории измерений) геологическое время в том виде, как оно было описано в двух предыдущих разделах.
Легко видеть, что процедура построения сводного разреза в результате сопоставления конкретных разрезов есть не что иное, как приведение эмпирической системы, элементами которой являются стратоны (или слои) конкретных разрезов. Синхронные стратоны при этом, очевидно, выступают как конгруэнтные элементы данной системы, а сводный разрез, возникающий в результате такого сопоставления, может уже рассматриваться в качестве системы неприводимой. Очевидно также, что отношения между стратонами конкретного разреза, сохраняющиеся в сводном разрезе при такой процедуре приведения (и, следовательно, являющиеся системообразующими в рассматриваемых эмпирических системах) суть отношения порядка. В стратиграфической практике они обычно выражаются словами «до», «после», «раньше», «позже», «моложе», «древнее». Эти отношения можно очень легко выразить через отношение порядка между действительными числами (отношение «меньше»), если каким-нибудь образом занумеровать стратоны сводного разреза «снизу вверх», т. е. от более древних к более молодым. Подобная нумерация уже применяется кое-где в стратиграфии (например, для обозначения отделов внутри систем МСШ), хотя гораздо чаще в качестве собственных имен стратонов используются существительные или прилагательные: палеоцен, ордовик, сухонская свита, зона Virgatites virgatus и т. д. Ясно, однако, что поскольку названия стратонов совершенно условны, то процедура их переименования может быть легко произведена кем угодно и суть геохронологической шкалы от этого не изменится.
На практике (из-за потенциальной бесконечности расчленения конкретных разрезов – см. раздел III.1) удобнее нумеровать даже не сами стратоны, а границы между ними. Тогда именем каждого стратона будет не одно число, а пара чисел, одно из которых соответствует его нижней, а другое – верхней границе. Если разрез будет затем детализироваться, т. е. в результате дальнейшего расчленения конкретных разрезов в нем появятся новые, промежуточные границы, то это не потребует перенумерации всех остальных границ, а новые границы могут получить соответствующие «промежуточные» (в общем случае дробные) номера. Например, если нижней границе некоторого стратона поставлено в соответствие число 2, а верхней – число 3, то сам этот стратон будет обозначаться как (2; 3). Если в дальнейшем в результате детализации шкалы он будет расчленен, скажем, на три части, то эти части будут обозначаться соответственно как (2; 7/3), (7/3; 8/3 ) и (8/3; 3). Соответствие между отношениями «раньше-позже» и «больше-меньше» при этом, очевидно, во всех случаях сохранится.
Важно отметить, что номера границ при описанном гомоморфизме всегда будут выражаться рациональными числами и, следовательно, их множество не более чем счетно, как бы дробно мы не расчленяли разрез. Связано это с тем, что хотя конкретный разрез и представляет собой отрезок прямой или дугу кривой линии (т. е. множество точек континуальной мощности), но границы в нем всегда являются результатами применения финитной операции расчленения.
Из всего сказанного можно сделать вывод, уже анонсированный в конце раздела I.1, а также в примечании {2}: стратиграфические шкалы, рассматриваемые в свете теории измерений, являются шкалами порядка. Это положение, вероятно, наиболее рельефно выражает и сходство, и отличия, существующие между геологическим временем и большинством других физических величин: все эти величины измеримы (т. е. для них можно построить шкалы), но большинство физических величин (и физическое время в том числе) измеряются в шкалах интервалов или отношений, а геологическое время – в более «слабых» шкалах порядка. По-видимому, это обстоятельство и имел в виду Мейен, утверждая, что с помощью стратиграфических шкал ничего нельзя измерить: измерения по аналогии с большинством физических величин он мыслил лишь в шкалах, более «сильных», чем шкалы порядка.
Приведенное описание стандартных стратиграфических процедур на языке теории измерений позволяет более четко сформулировать и то противоречие, которое выше было названо стратиграфическим парадоксом. В самом деле, если геологическое время «устроено», в принципе, так же, как и всякое другое (роль процессов в нем играют конкретные разрезы, а роль синхронизации – корреляция на основе принципов Смита-Гексли и Мейена), то почему оно измеряется в шкалах другого типа, чем время физическое? Основное отличие «наивного времени вообще» (см. раздел I.2) от геологического времени можно усмотреть в отношении эквилататности, которое присутствует в часах и сохраняется при синхронизации, но, по-видимому, отсутствует (или не принимается во внимание?) в стратиграфических шкалах. Аналогами часов в стратиграфии можно считать абсолютно конкретные разрезы, которые мы определили как некоторые линии в евклидовом пространстве, заполненном осадочной горной породой. Но для любой такой линии отношение эквилататности между ее точками может быть задано вполне естественным образом в силу «тройного изоморфизма» Ньютона {3}!
Таким образом, рассматриваемый парадокс можно сформулировать в следующем виде. С одной стороны, геологическое время спациировано, а с другой – оно измеряется в шкалах порядка. Шкалы порядка не допускают рассмотрения в качестве адекватных таких отношений как эквилататность (как было показано в разделе II.2, на множестве действительных чисел существуют такие монотонные и непрерывные преобразования, которые не сохраняют отношения равенства двух разностей), хотя между временем и пространством существует изоморфизм, в рамках которого такие отношения сохраняются.
Для того чтобы преодолеть это противоречие, нам придётся более детально рассмотреть топологическую структуру геологического времени и выйти за пределы концепции «наивного» времени.
IV. Принцип Дарвина. Реальная структура геологического времени
На вопрос о том, почему отношение эквилататности не сохраняется при синхронизации двух конкретных разрезов, можно дать лишь «философский» ответ – такова эмпирическая реальность. Когда в главе II мы рассматривали «наивное» время, то одно из отношений, существенное для него, – отношение порядка – сохранялось используемыми методами синхронизации (через процесс «я») в силу нашей интуиции, тогда как сохранение другого – отношения эквилататности – устанавливалось эмпирически: мы знаем о существовании большого числа процессов (часов), которые протекают равномерно друг относительно друга; эта относительная равномерность есть один из аспектов общности данных процессов, выражаемой самим понятием «время», поэтому отношение эквилататности оказывается «системообразующим» для соответствующей эмпирической системы. При рассмотрении же геологического времени применяются другие методы синхронизации, основанные на принципах Смита-Гексли и Мейена. Сохранение отношения порядка в этом случае постулируется: если в сопоставляемых разрезах наблюдается разный порядок анализируемых признаков, то такая ситуация рассматривается как нарушение гомотаксальности, а соответствующие признаки – как непригодные для корреляции данных разрезов. Что касается отношения эквилататности, то его сохранение при геологической синхронизации – скорее исключение, чем правило (рис. 4).
Рис. 4. Сопоставление мощностей одновозрастных стратонов в двух коррелируемых разрезах
Мощности (в метрах), измеренные в одном разрезе, отложены по горизонтальной оси, а в другом – по вертикальной. Маркерами помечено положение изохронных границ. Если бы между моментами времени, соответствующими точкам каждого из разрезов, выполнялось отношение эквилататности (скорость осадконакопления была бы постоянной), то все маркеры ложились бы на прямую линию, которая для наглядности также проведена на каждом из графиков. Тот факт, что реальные кривые, показывающие соотношение мощностей, сильно отличаются от прямых, свидетельствует о несохранении эквилататности при корреляции разрезов
а – две скважины, вскрывшие отложения татарского яруса в бассейне р. Сухоны; б – сводные разрезы татарского яруса по рекам Сухоне и Вятке

Обычно этот эмпирический факт обозначается утверждением, что скорость осадконакопления в каждом конкретном разрезе не есть величина постоянная и вообще характер ее зависимости от времени, как правило, не известен {4}. Для корректного описания ситуаций, однако, достаточно допустить, что хотя бы в некоторых точках некоторых разрезов эта скорость равна нулю, т. е. что эти разрезы не являются непрерывными.
Ч. Дарвин был, вероятно, первым, кто обратил особое внимание на прерывистость осадконакопления как принципиальный стратиграфический факт, накладывающий отпечаток на фундаментальные свойства геологического времени. Подробному рассмотрению этого факта посвящена специальная глава «Происхождения видов» (10-ая в 6-ом лондонском издании 1872 г.), которая носит название «О неполноте геологической летописи» (цит. по русскому изданию [9]). Соответственно, принцип Дарвина или принцип неполноты геологической летописи рассматривается рядом авторов [32; 38] как один из основополагающих принципов стратиграфии, хотя другие [24; 30] оспаривают его фундаментальность. Сказанного выше о несохранении эквилататности при геологической синхронизации, вероятно, достаточно для того, чтобы осознать необходимость включения принципа Дарвина в число основных (необходимых и достаточных) стратиграфических принципов.
Строго говоря, принципом Дарвина описывается некоторая специальная ситуация нарушения гомотаксальности, в которой, однако (вопреки принципу Смита-Гексли), сопоставление разрезов оказывается возможным. А именно: если в одном разрезе наблюдается последовательность признаков α→β→γ, а в другом – α→γ, то эти разрезы могут быть сопоставлены таким образом, как это показано на рисунке 3в. При этом с границей F/E второго разреза синхронизируется не одна, а две границы первого (L/K и M/L), а про стратон L, характеризующийся признаком β, говорится, что он «выпадает» из второго разреза или «соответствует перерыву» в нем. Выпадение стратонов или перерыв может, вообще говоря, ожидаться на любой границе любого разреза, но при этом только на границе, т. к. выявить этот перерыв можно лишь путем корреляции данного разреза с другим, более полным, где присутствует «выпадающий» стратон.
Наличием перерывов, по-видимому, объясняется та резкость границ между слоями (в сравнении с фациальными границами), о которой говорилось в разделе III.1. Поскольку эта резкость является критерием расчленения разреза, то утверждение о наличии перерыва (актуально или потенциально наблюдаемого) на любой границе можно прочитать «в обратную сторону»: при расчленении разреза границы между стратонами можно проводить лишь на тех уровнях, где допустимо наличие перерыва. В связи с этим абсолютно бессмысленной выглядит рекомендация Международной стратиграфической комиссии [46, пункт 4.1.2] выбирать стратотипы границ МСШ в непрерывных разрезах. Выбранные таким образом границы невозможно проследить никуда за пределами эталонного конкретного разреза, и они не имеют даже права называться границами, будучи всего лишь точками на линии, соответствующей этому разрезу.
Если считать, что один из сопоставляемых конкретных разрезов является абсолютно полным (т. е. выпадение стратонов наблюдается только во втором разрезе), то кажется, что процедуру корреляции можно рассматривать как отображение второго разреза в первый. Однако, это неверно. Дело в том, что множество «граничных» точек в каждом разрезе имеет счетную мощность, хотя и является уплотненным (оно возникает в результате применения финитных процедур расчленения, хотя множество таких процедур может быть и бесконечным – см. раздел III.1), а множество всех точек разреза имеет, очевидно, мощность континуума. Без потери общности можно считать, что в каждом разрезе рассматриваются лишь рациональные точки {5} (вспомним результат, полученный в разделе III.3: при нумерации стратиграфических границ им всегда соответствуют только рациональные числа). Корреляцию иррациональных точек можно было бы осуществить с помощью предельного перехода: если иррациональная точка L второго разреза является пределом последовательности рациональных точек

каждой из которых поставлена в соответствие некоторая рациональная точка первого разреза

где f – предполагаемое отображение второго разреза в первый, то точке L можно поставить в соответствие ту точку, которая является пределом последовательности точек

Однако, в силу принципа Дарвина предполагаемое отображение не может быть непрерывным, поэтому в общем случае предел последовательности

не существует и образ точки L в первом разрезе остается неопределенным.
Можно предложить и другое «доказательство методом от противного» того факта, что геологическое время имеет иную топологическую структуру, чем «наивное». В самом деле, если пытаться описать геологическое время в терминах «ньютоновского изоморфизма», то время, запечатленное в абсолютно конкретном разрезе, в силу принципа Дарвина оказывается изоморфным не отрезку вещественной прямой, а канторовскому дисконтинууму {6}, в котором существуют точки двух типов – односторонние и двусторонние. Множество односторонних точек счетно, и среди них есть такие пары (M; N), что между точками M и N нет никаких точек, принадлежащих данному дисконтинууму. Что же касается двусторонних точек, то их множество имеет мощность континуума и между любыми двумя двусторонними точками найдутся как односторонние, так и двусторонние точки. Канторов дисконтинуум есть нигде не плотное множество, которое, однако, не содержит изолированных точек.
Аналогично в абсолютно конкретном разрезе можно различать точки двух типов – «граничные», т. е. соответствующие (хотя бы потенциально) границам стратонов, и «внутренние», которые ни при каком расчленении не окажутся лежащими на какой бы то ни было границе. Хотя множество граничных точек и бесконечно (в силу потенциальной бесконечности расчленения разрезов), но оно имеет лишь счетную мощность, тогда множество внутренних точек (так же, как и весь конкретный разрез) имеет мощность континуума. При сопоставлении разрезов синхронными могут считаться лишь (некоторые) граничные точки, тогда как о синхронности внутренних точек ничего сказать нельзя. Геологическое время в целом «возникает» в результате обобщения процедуры корреляции, поэтому мы должны считать, что оно состоит из моментов, соответствующих лишь коррелируемым точкам конкретных разрезов, и таким образом, представляет собой счётное множество моментов.
Описанная выше структура абсолютно конкретного разреза заставляет нас пересмотреть и формулировку принципа Стенона, данную в разделе III.1, а вместе с ней – и само понятие конкретного разреза. Такие понятия, как скалярное поле времени и градиент этого поля подразумевают наличие у времени «нормальной» топологической структуры (т. е. соответствующей «наивной» ньютоновской концепции) и, следовательно, измеримость времени в шкале интервалов. Иная же структура времени и иной тип шкалы для его измерения, вытекающие из принципа Дарвина, вынуждают и к иному описанию пространственно-временных отношений в земной коре, с наблюдения которых по существу начинается всякое стратиграфическое исследование {7}. Из понятий, рассматривавшихся в разделе III.1, мы можем теперь сохранить, пожалуй, лишь понятие изохронной поверхности, да и то, утверждение о том, что такую поверхность можно провести через каждую точку пространства, заполненного осадочной горной породой, следует признать неверным.
В свете согласования с принципом Дарвина (и преодоления «стратиграфического парадокса») можно дать здесь следующую новую формулировку принципа Стенона:
В любой области пространства, заполненной осадочной горной породой, существует счетное множество изохронных поверхностей (т. е. поверхностей, все точки которых синхронны друг другу). Если рассматриваемая горная порода не претерпела за свою историю никаких пространственных перемещений (находится в ненарушенном залегании), то все эти поверхности представляют собой горизонтальные (нормальные к силе тяжести и, следовательно, параллельные друг другу) плоскости.
Конкретным разрезом при этом можно называть любую линию, нормальную ко всем изохронным поверхностям, которые она пересекает, а слоем – единицу изменчивости горной породы при прослеживании ее вдоль конкретного разреза.
Поскольку шкалы порядка определяются как инвариантные относительно любых монотонных непрерывных преобразований [31], то «прерывистость» конкретных разрезов, постулируемая принципом Дарвина, может показаться препятствием для измерения геологического времени даже в шкалах порядка. Однако, отсутствие непрерывности (в топологическом смысле) проявляется существенным образом лишь при корреляции конкретных разрезов, т. е. на стадии «приведения» эмпирической системы. Именно эта процедура «приведения» заставляет нас перейти от рассмотрения континуальных отрезков или дуг с отношениями эквилататности (абсолютно конкретных разрезов) к счетным множествам без таких отношений. В результате геологическое время в целом, рассматриваемое как неприводимая система, оказывается счетным множеством моментов, единственным «системообразующим» отношением на котором является отношение строгого порядка «раньше». Согласно лемме 4.2.1 И. Пфанцагля [31, стр. 76] шкала порядка существует для всякой линейно упорядоченной эмпирической системы, имеющей счетную мощность. Но является ли геологическое время линейно упорядоченным?
Салин [34] считает, что границы стратонов МСШ окружают всю Землю, создавая стратиграфическую структуру земной коры, подобную вернеровской «луковице». Несомненно, что в рамках таких представлений геологическое время (по крайней мере, измеряемое МСШ) линейно упорядочено: из любых двух различных границ одна всегда либо древнее, либо моложе другой. Однако, Мейен [24] обратил внимание на то, что в действительности мы наблюдаем в земной коре принципиально другую стратиграфическую структуру: из-за фациальной изменчивости резкость каждой границы между слоями может меняться при переходе от одного конкретного разреза к другому вплоть до ее (границы) полного исчезновения. Рисунок 5 иллюстрирует это положение для слоев, выделяемых по литологическим критериям, однако оно оказывается справедливым и при использовании любых других стратиграфических признаков.
Рис. 5. Глинистые прослои, «растворяющиеся» в толще песчаников. Обнажение верхнепермских пород на правом берегу р. Малая Северная Двина у пристани Аристово (Вологодская обл.)

В схематическом виде данное положение, также иллюстрируется рисунком 6, из которого хорошо видно, что реальная стратиграфическая структура земной коры на вернеровскую «луковицу» походит очень мало. И дело здесь не только в том, что некоторые границы упираются друг в друга (как, например, граница L упирается в границу M, а граница V – в границу J), знаменуя наличие перерывов. Гораздо интереснее другой факт, подмеченный Мейеном: при трассировании изохронных поверхностей граничные точки одного конкретного разреза могут оказаться соответствующими внутренним точкам другого разреза. Это значит, что при корреляции, даже если ограничиться лишь рассмотрением граничных точек, среди них будут существовать как «коррелируемые», так и «некоррелируемые», т. е такие, которым в другом разрезе не может быть сопоставлена никакая точка, как бы дробно этот второй разрез не расчленялся. Например, обращаясь к рис. 6, мы можем сказать, что граница X разреза 2 моложе границы J и древнее границы H разреза 1, но ничего не можем сказать о ее временных отношениях с границей I.
Рис. 6. Типичная наблюдаемая стратиграфическая структура земной коры
1, 2 – разрезы; E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, T, U, V, W, X, Y – границы

Понятно, что это порождает весьма сложную пространственную структуру геологического времени. Можно сказать, что оно «течет» по-разному в разных географических точках. Как должна быть устроена шкала такого «многоколейного» времени, сказать трудно. В практической стратиграфии эта трудность преодолевается с помощью введения так называемых региональных стратиграфических шкал (РСШ), т. е. сводных разрезов, корреляция которых друг с другом проблематична, а может быть, и вообще невозможна. Таким образом, вместо единственного, но «многоколейного» времени стратиграфы предпочитают рассматривать множество геологических времен, каждое из которых характеризуется определенной географической привязкой и измеряется с помощью своей собственной шкалы. Поскольку основная наша задача – анализ измерения геологического времени (или, что то же самое, анализ стратиграфических шкал), то и мы будем следовать этой традиции, считая, что всякая РСШ есть инструмент измерения времени, которое, впрочем, может быть иным для другой РСШ.
Таким образом, каждый сводный разрез можно рассматривать как отдельное время, моменты которого (классы синхронных коррелируемых точек конкретных разрезов), естественно, линейно упорядочены. Всякое такое время, как уже отмечалось, может быть измерено с помощью шкалы порядка, и всякой стратиграфической шкале (РСШ или МСШ) может быть сопоставлена шкала (порядка) в смысле теории измерений.
V. Заключение
Подведем некоторые итоги.
Для адекватного и точного описания «наивного» (т. е. изоморфного множеству действительных чисел и направленной прямой линии) ньютоновского времени необходимо и достаточно рассмотрения на множестве его моментов двух отношений: бинарного отношения строгого порядка, обычно выражаемого словом «раньше», и четырехместного отношения эквилататности, соответствующего интуитивным представлениям о равенстве временных интервалов. Геологическое время имеет иную топологическую структуру, чем «наивное» время (не гомеоморфно ему).
Несмотря на спациированность (в соответствии с принципом Стенона) геологического времени, конкретные разрезы (линии в земной коре) в силу принципа Дарвина не изоморфны тем интервалам времени, которые в них отражаются. В каждом конкретном разрезе можно различать точки двух типов – граничные и внутренние. Оба множества этих точек являются уплотненными, но множество граничных точек счетно, а множество внутренних точек континуально (здесь имеется полная аналогия с рациональными и иррациональными точками вещественной прямой). Среди граничных точек можно при корреляции с другим разрезом так же различать два типа: точки коррелируемые и некоррелируемые. Множество коррелируемых точек как подмножество счетного множества граничных точек всегда не более чем счётно.
Таким образом, геологическое время, которое трактуется мною как «фактор-разрез» (т. е. строится на основании сопоставления конкретных разрезов друг с другом), оказывается не изоморфным какой-либо линии в пространстве и, следовательно, – множеству действительных чисел. Множество моментов геологического времени имеет счетную мощность (а не мощность континуума) и может быть сопоставлено лишь с множеством рациональных чисел. Кроме того, для моментов геологического времени в общем случае не осмыслено отношение эквилататности, являющееся обязательным атрибутом «наивных» представлений о времени.
Описанные отличия геологического времени от «наивного» выступают наиболее рельефно в процедуре измерения. Стратиграфические шкалы, с помощью которых измеряется геологическое время, могут рассматриваться лишь как шкалы порядка, тогда как «наивное» время (так же, как и физическое) традиционно измеряется в шкалах интервалов.
Непонимание этого обстоятельства большинством теоретиков стратиграфии порождало «стратиграфический парадокс», присутствовавший в той или иной форме в каждой из предлагавшихся теоретико-стратиграфических концепций. Осознание и преодоление этого парадокса позволяет надеяться и на преодоление противоречий, до сих пор раздирающих теоретическую стратиграфию, и построение теории, которая могла бы стать стратиграфической парадигмой.
Примечания
{1} Наличие фациальной (т. е. принципиально не связанной со временем) изменчивости у осадочных горных пород не позволяет нам принять мейеновского определения времени, согласно которому время есть изменчивость индивида [25; 29]. Это определение представляется недостаточным, употребленное в нем слово «изменчивость» нуждается в спецификации: какая именно изменчивость индивида является временем? Но задумываясь над этим вопросом, мы не находим никакого ответа кроме тавтологического: «временнáя». Таким образом, мы снова возвращаемся, к той августиновско-кантовской тавтологии, о которой шла речь в разделе I.2.
{2} Следует, однако, помнить, что употребление слова «таксон» в данном контексте не вполне корректно. Дело в том, что это слово имплицитно содержит в себе апелляцию к систематике живых организмов, которая, в некотором смысле, «устроена» существенно проще, чем стратиграфические шкалы [6]. С точки зрения теории измерений биологические классификации являются шкалами наименований (см. раздел I.1). Для них существенны лишь отношения принадлежности к одному или к разным таксонам. Стратиграфические же шкалы (или стратиграфические классификации, как их иногда называют – см. [20; 23] и др.), как мы увидим ниже, являются шкалами порядка: помимо принадлежности к одному или к разным стратонам сводного разреза для них существен порядок следования этих стратонов друг за другом внутри шкалы. Таким образом, стратиграфические шкалы богаче отношениями, чем биологические классификации, и, соответственно, имеют более узкий класс допустимых преобразований.
{3} Более строго: отношение эквилататности было определено нами на множестве моментов времени, на множестве действительных чисел ему соответствует отношение, определяемое равенством разностей двух пар чисел, а на множестве точек какой-либо кривой – равенством двух дуг этой кривой (в случае прямой линии - равенством двух отрезков).
{4} Понятие скорости (производной по времени) трудно определить в условиях, когда время измеряется в шкале порядка, однако, можно ввести в рассмотрение некоторый эталонный конкретный разрез, скорость осадконакопления в котором постоянна по определению, а скорости осадконакопления во всех других разрезах определять через сопоставление (обычными стратиграфическими методами) с этим эталоном.
{5} Их множество также является счетным и уплотненным.
{6} Рассмотрим отрезок KL. Разделим его каким-нибудь образом на три части, например, - KM, MN и NL и «выбросим» (исключим из дальнейшего рассмотрения) внутренние точки отрезка MN. У нас вместо одного отрезка получится два: KM и NL. Поступим с каждым из них таким же образом, как мы поступили с отрезком KL. Получим четыре отрезка, например, - KE, FM, NU и VL. Множество точек, которое получится в результате применения этой процедуры бесконечное число раз, называется канторовым дисконтинуумом. О свойствах этого во многих отношениях замечательного множества, которое, кстати, является одним из простейших примеров фрактала, можно более подробно прочитать, например, в учебнике П. С. Александрова [1]. Вероятно, именно такую «фрактальную прерывистость» геологического времени и имел в виду Дарвин (рассуждавший, разумеется, исключительно в рамках «наивных» представлений о времени) в знаменитом фрагменте 10-й главы «Происхождения видов»: «Что касается меня, то, следуя метафоре Ляйеля, я смотрю на геологическую летопись как на историю мира, не вполне сохранившуюся и написанную на менявшемся языке, историю, из которой у нас имеется только один последний том, касающийся только двух или трех стран. От этого тома сохранилась лишь в некоторых местах краткая глава, и на каждой странице только местами уцелело по нескольку строчек» [9, стр. 289 – 290].
{7} Данное обстоятельство можно также рассматривать в качестве проявления «стратиграфического парадокса», описанного в разделе III.3: начав построение теории с понятия скалярного поля времени, мы пришли в конце концов к невозможности его использования.
Библиография
1. Александров П. С. Введение в теорию множеств и общую топологию. М.: Наука, 1977, 367 стр.
2. Аронов Р. А., Угаров В. А. Пространство, время и законы сохранения // Природа, 1978, № 10, стр. 99 – 104.
3. Блаженный Августин. Исповедь // Творения блаженного Августина Епископа Иппонийского. Ч. 1. Издание третье, Киев, 1914, стр. 1 – 442 (фототипическое издание изд-ва «Жизнь с Богом», Брюссель, 1974).
4. Геологические памятники природы Республики Татарстан. Казань: Акварель-Арт, 2007, 295 стр.
5. Гильберт Д. Основания геометрии. М. – Л., ОГИЗ, Государственное изд-во технико-теоретической литературы, 1948, 491 стр.
6. Гоманьков А. В. Основные проблемы расчленения и корреляции континентальных толщ (на примере перми и триаса Ангариды) // Пути детализации стратиграфических схем и палеогеографических реконструкций. М.: ГЕОС, 2001а, стр. 234 – 240.
7. Гоманьков А. В. Теоретическая стратиграфия в работах С. В. Мейена // Материалы симпозиума, посвященного памяти С. В. Мейена (1935 – 1987), Москва, 25 – 26 декабря 2000 года. М.: ГЕОС, 2001б, стр. 71 – 76.
8. Грюнбаум А. Философские проблемы пространства и времени. Издание третье. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010, 574 стр.
9. Дарвин Ч. Происхождение видов путем естественного отбора или сохранение благоприятных рас в борьбе за жизнь (перев. с англ.). СПб: Наука, 1991, 539 стр.
10. Драгунов В. И. Онтологические аспекты геологии // Проблемы развития советской геологии. Л.: Недра, 1971, стр. 85 – 101 (Тр. ВСЕГЕИ, новая серия, т. 177).
11. Жамойда А. И. Сергей Викторович Мейен и теоретическая стратиграфия (к 60-летию со дня рождения) // Стратиграфия. Геологическая корреляция, 1995, т. 3, № 4, стр. 83 – 94.
12. Ивин А. А. Логика времени // Неклассическая логика. М.: Наука, 1970, стр. 124 – 190.
13. Кант И. Критика чистого разума. СПб, 1867, 627 стр.
14. Клини С. К. Введение в метаматематику. М.: Изд-во иностранной литературы, 1957, 526 стр.
15. Клини С. К. Математическая логика. М.: Мир, 1973, 480 стр.
16. Котов В. Н. Применение теории измерений в биологических исследованиях. Киев: Наукова думка, 1985, 100 стр.
17. Кузнецов В. И., Идлис Т. М., Гутина В. И. Естествознание. М.: Агар, 1996, 384 стр.
18. Кузнецов Г. А. Трактат о часах // Теория логического вывода. М.: Наука, 1973, стр. 228 – 248.
19. Кун Т. Структура научных революций. М.: АСТ, Ермак, 2003, стр. 5 – 311.
20. Леонов Г. П. Основы стратиграфии. Т. 1. М.: МГУ, 1973, 530 стр.
21. Майоров Г. Г. Формирование средневековой философии. Латинская патристика. М.: Мысль, 1979, 431 стр.
22. Манин Ю. И. Теорема Гёделя // Природа, 1975, № 12, стр. 80 – 87.
23. Международный стратиграфический справочник. Руководство по стратиграфической классификации, терминологии и их применению. М.: Мир, 1978, 228 стр.
24. Мейен С. В. Введение в теорию стратиграфии. М.: Наука, 1989, 215 стр.
25. Мейен С. В. Понятие времени и типология объектов (на примере биологии и геологии) // Эволюция материи и её структурные уровни. М.: Наука, 1983, стр. 311 – 317.
26. Мейен С. В. Таксономия и мерономия // Вопросы методологии в геологических науках. Киев: Наукова думка, 1977, стр. 25 – 33.
27. Никитин С. Н., Чернышев Ф. Н. Международный геологический конгресс и его последние сессии в Берлине и Лондоне // Геологический журнал, 1889, т. I, № 1, стр. 114 – 150.
28. Общая стратиграфия (терминологический справочник). Хабаровск, 1979, 842 стр.
29. Оноприенко В. И. Письма С. В. Мейена к К. В. Симакову // Памяти Сергея Викторовича Мейена (к 70-летию со дня рождения). Труды Международной палеоботанической конференции. Москва, 17 – 18 мая 2005. Вып. 3. М.: ГЕОС, 2005, стр. 78 – 102.
30. Попов А. В. Измерение геологического времени. Принципы стратиграфии и закономерности эволюции. Учебное пособие. СПб: СПбГУ, 2003, 143 стр.
31. Пфанцагль И. Теория измерений. М.: Мир, 1976, 248 стр.
32. Садыков А. М. Идеи рациональной стратиграфии. Алма-Ата: Наука, 1974, 182 стр.
33. Салин Ю. С. Нелогическая геология во времена Г. Спенсера и в наши дни // Вопросы методологии в геологических науках. Киев: Наукова думка, 1977, стр. 121 – 128.
34. Салин Ю. С. Стратиграфия: порядок и хаос. Владивосток: Дальнаука, 1994, 221 стр.
35. Симаков К. В. Об основных принципах теоретической стратиграфии // Изв. АН СССР, сер. геол., 1989, № 10, стр. 17 – 23.
36. Симаков К. В. К проблеме естественнонаучного определения времени. Магадан, 1994, 108 стр.
37. Спенсер Г. Нелогическая геология // Собр. соч., т. 3. СПб, 1866, стр. 277 – 335.
38. Степанов Д. Л., Месежников М. С. Общая стратиграфия (Принципы и методы стратиграфических исследований). Л.: Недра, 1979, 423 стр.
39. Стратиграфический кодекс. Издание второе, дополненное. СПб, 1992, 120 стр.
40. Форш Н. Н. О стратиграфическом расчленении и корреляции разрезов татарского яруса востока Русской платформы по комплексу литолого-стратиграфических, палеомагнитных и палеонтологических данных // Палеомагнитные стратиграфические исследования. Сборник статей. Л., Гостоптехиздат, стр. 175 – 211 (Тр. ВНИГРИ, вып. 204).
41. Фрагменты ранних греческих философов. Часть I. От эпических теокосмогоний до возникновения атомистики. М.: Наука, 1989, 576 стр.
42. Хасанов И. А. Физическое время. М., 1999, 49 стр.
43. Цифровое кодирование систематических признаков древних организмов. М.: Наука, 1972, 188 стр.
44. Шрейдер Ю. А. Равенство, сходство, порядок. М.: Наука, 1971, 254 стр.
45. Шрок Р. Последовательность в свитах слоистых пород. М.: Изд-во иностранной литературы, 1950, 564 стр.
46. Remane J., Bassett M. G., Cowie J. W., Gohrbandt K. H., Lane H. R., Michelsen O., Wang Naiweng. Guidelines for the establishment of global chronostratigraphic standarts by the International Commission on Stratigraphy (ICS) (Revised) // Permophiles, 1996, № 29, pp. 25 – 30.
среда, 29 июля 2020
Эта большая статья (или маленькая книга?) была написана мной почти 20 лет назад и издана в виде отдельной брошюры в 2007 г., а также вывешена в Интернете на сайте виртуального Института исследований природы времени (www.chronos.msu.ru/old/RREPORTS/gomankov_geolog...). Работа, однако, не нашла широкого отклика у публики: большая часть тиража по-прежнему лежит у меня дома и на работе. В 2017 г. ко мне обратилась редакция альманаха "Метапарадигма" с предложением поместить эту работу в альманахе. Я согласился и для этого 2-го издания внёс в текст работы некоторые изменения, необходимость которых я успел осознать за время, прошедшее с момента первого издания. Однако, альманах "Метапарадигма" до сих пор мою работу не издал и вообще, насколько я понимаю, прекратил своё существование. Поэтому, новый вариант работы, "исправленный и дополненный", я помещаю здесь, имея также в виду вносить в него дальнейшие исправления, которые могут придти мне в голову в будущем.

Особенности геологического времени рассматриваются в сравнении с представлениями, составляющими «ньютоновскую» или «наивную» концепцию времени. Наиболее рельефно различия между двумя временами выступают в процедуре измерения того и другого, рассматриваемой в свете математической теории измерений. Показано, что стратиграфические шкалы являются также шкалами в смысле теории измерений, а именно – шкалами порядка, тогда как «наивное» время (так же, как и физическое) измеряется обычно в шкалах интервалов.
I. Введение. Теоретические предпосылки
1. Основные положения теории измерений
Традиционно измерение различных величин в естествознании было прерогативой физики. В других естественных науках (иногда даже называемых «качественными» в противоположность «количественной» физике), как правило, измерения или вообще не проводились, или измерялись величины, тесно и очевидным образом связанные с физическими. Положение кардинально изменилось в XX веке, когда во многих областях знания стали измеряться величины, редукция которых к физическим величинам была, по меньшей мере, не очевидной. Пальма первенства в этой сфере деятельности принадлежит, по-видимому, психологии, однако, немалый вклад был сделан также биологической систематикой (см., например, [43]). В середине XX в. все это привело к возникновению и бурному развитию специальной теории измерений – математической дисциплины, исследующей специфику различных измерительных процедур [16; 31]. Поскольку некоторые понятия и результаты этой теории будут широко использоваться нами в дальнейшем изложении, здесь имеет смысл хотя бы кратко остановиться на основных ее положениях.
Исходным для этой теории является понятие системы, которая рассматривается как множество элементов (вообще говоря, произвольной природы), на котором заданы некоторые отношения. Обозначаются системы как (Z; S), где Z есть множество элементов системы, а S – множество отношений, заданных на множестве Z. Если элементами системы являются (какие-нибудь, не обязательно все) действительные числа, то такая система называется числовой.
Всякий элемент любой системы может быть охарактеризован множеством тех отношений, в которых он участвует. Это множество можно, очевидно, отождествить с функцией данного элемента в данной системе. Вообще говоря, в системе могут существовать разные элементы с одинаковыми функциями, т. е. участвующие в одних и тех же отношениях. Для системы такие элементы являются взаимозаменяемыми, их обычно называют конгруэнтными. Отношение конгруэнтности элементов {1}, очевидно, обладает свойствами рефлексивности (каждый элемент конгруэнтен сам себе), симметричности (если элемент x конгруэнтен элементу y, то элемент y так же конгруэнтен элементу x) и транзитивности (если два элемента x и y конгруэнтны третьему элементу z, то они так же конгруэнтны друг другу). Отношения, обладающие такими свойствами, называются отношениями эквивалентности. Таким образом, отношение конгруэнтности элементов системы есть частный случай отношения эквивалентности. В теории бинарных отношений [44] существует теорема, согласно которой всякое отношение эквивалентности, заданное не некотором множестве, порождает разбиение этого множества на непересекающиеся подмножества. Следовательно, всякая система неким естественным образом порождает разбиение множества своих элементов на непересекающиеся подмножества – так называемые классы конгруэнтности. Система называется неприводимой, если она не имеет различных элементов, конгруэнтных друг другу, т. е. функция каждого ее элемента уникальна и каждый класс конгруэнтности состоит из одного-единственного элемента.
Если имеется две системы, например, и
и  , то можно построить отображение f множества
, то можно построить отображение f множества  в множество
в множество  , т. е. каждому элементу x множества
, т. е. каждому элементу x множества  поставить в соответствие какой-нибудь (и только один!) элемент множества
поставить в соответствие какой-нибудь (и только один!) элемент множества  , обозначаемый в этом случае как f(x). Если при этом «сохраняются» системообразующие отношения (т. е. каждому элементу множества
, обозначаемый в этом случае как f(x). Если при этом «сохраняются» системообразующие отношения (т. е. каждому элементу множества  оказывается поставленным в соответствие какой-нибудь элемент множества
оказывается поставленным в соответствие какой-нибудь элемент множества  ), то такое отображение называется гомоморфизмом и обозначается следующим образом:
), то такое отображение называется гомоморфизмом и обозначается следующим образом:
 .
.
Если отображение f множества в множество
в множество  и множества
и множества  в множество
в множество  является взаимно однозначным, то такой гомоморфизм называется изоморфизмом.
является взаимно однозначным, то такой гомоморфизм называется изоморфизмом.
Главным понятием теории измерений является понятие шкалы (иногда её даже называют теорией шкал). Шкалой называется гомоморфизм неприводимой эмпирической системы в числовую систему. В качестве эмпирической системы при этом рассматривается система значений анализируемого признака. Например, если мы изучаем такой признак как яркость у каких-либо источников света, то мы можем заметить, что эти источники не просто отличаются друг от друга по своей яркости, но и то, что эти разные значения яркости находятся друг с другом в определенных отношениях. Скажем, источник θ кажется нам более ярким, чем источник λ, но менее ярким, чем источник η. Это значит, что яркость источника θ находится между яркостью источника λ и яркостью источника η. Словом «между» в данном случае выражается некоторое отношение, заданное на множестве наблюдаемых значений яркости. Шкалой яркости в данном случае будет, например, такое отображение этих значений в множество действительных чисел, при котором число, соответствующее яркости источника θ, будет больше, чем число, соответствующее яркости источника λ, но меньше, чем число, соответствующее яркости источника η: отношение «между» на множестве значений яркости перейдет в отношение «между» на числовой оси, т. е. на множестве действительных чисел.
Если эмпирическая система значений какого-либо признака, который мы хотим измерить (т. е. построить шкалу на основе этой системы), не является неприводимой, то с ней обычно совершают стандартную процедуру приведения – переходят к рассмотрению новой системы, элементами которой являются классы конгруэнтности прежней системы, а отношения между ними мыслятся такими же, как отношения между элементами прежней системы. Такая новая система, очевидно, уже неприводима, и если построить из нее какой-нибудь гомоморфизм в числовую систему, то мы получим шкалу в смысле теории измерений.
В теории измерений существует классификация шкал, основанная на тех преобразованиях, относительно которых рассматриваемая шкала оказывается инвариантной. Пусть, например, имеется гомоморфизм µ некоей неприводимой системы (Z; S) в множество действительных чисел:

(здесь Z – произвольное множество, R – множество действительных чисел, а S и P – некие множества отношений соответственно на Z и на R). Тогда по определению µ – это шкала. Пусть есть также некая числовая функция f, определенная, по крайней мере, на области прибытия отображения µ:

Будем тогда говорить, что шкала µ инвариантна относительно преобразования f (а преобразование f допустимо для шкалы µ), если композиция отображений f и µ есть также гомоморфизм системы (Z; S) в множество действительных чисел:
 .
.
Очевидно, что чем сложнее измеряемая эмпирическая система (чем больше в ней отношений и чем более сложными являются сами эти отношения), тем «сильнее» рассматриваемая шкала и тем ýже класс ее допустимых преобразований.
В рамках классификации, основанной на типах допустимых преобразований, различаются следующие типы наиболее употребительных шкал:
1. Шкалы наименований, инвариантные относительно любых взаимно однозначных функций на множестве действительных чисел. Пример: нумерация игроков футбольной команды, имеющая единственную цель – различать футболистов на поле.
2. Шкалы порядка, инвариантные относительно любых монотонных непрерывных функций. Сюда относятся все так называемые «балльные» шкалы: шкала для определения силы шторма на море, шкала Рихтера для определения силы землетрясений, шкала оценки знаний у школьников и т. п.
3. Шкалы интервалов, инвариантные относительно любых линейных преобразований типа x′ = ax + b. Пример: температурная шкала Цельсия, имеющая условный нуль отсчета (точку замерзания воды) и условную же единицу измерения (одну сотую расстояния от точки замерзания до точки кипения).
4. Шкалы отношений, инвариантные относительно линейных преобразований, где b = 0 (x′ = ax). В шкалах отношений измеряется большинство скалярных физических величин: длина, масса, энергия, температура по Кельвину и т. д.; все они имеют «естественное» начало отсчета (нулевое значение), но измеряются в условных единицах.
5. Шкалы разностей, инвариантные относительно линейных преобразований, где a = 1 (x′ = x + b). Сюда относятся все шкалы для измерения «фаз» различных периодических процессов (например, фаз Луны, или фаз переменного тока); для них существует естественная единица измерения (один полный цикл), но нет безусловного начала отсчета.
6. Абсолютные шкалы, инвариантные лишь относительно тождественного преобразования. В абсолютных шкалах измеряются все так называемые «безразмерные» величины: отношение длины объекта к его ширине, число элементов в конечном множестве и т. д.
Пожалуй, главная цель настоящей работы заключается в обосновании положения о том, что стратиграфические шкалы являются также шкалами в смысле теории измерений, а именно – шкалами порядка, и в ответе на вопрос, почему они являются шкалами порядка, а не какими-нибудь другими.
2. Время как фактор-процесс
Что такое время?
«Исповедь» блаженного Августина, написанная около 400 г. н. э., содержит довольно большой по объему фрагмент (главы 10 – 30 книги XI), который рассматривается историками философии как одно из глубочайших за всю историю человечества сочинений о времени [21]. В начале этого фрагмента есть такие слова: «…Что такое время? Пока никто меня о том не спрашивает, я понимаю, нисколько не затрудняясь; но коль скоро хочу дать ответ об этом, я становлюсь совершенно в тупик» [3, cтр. 313]. Так же, т. е. как основную первичную интуицию нашего сознания, лежащую в основе всякого познавательного процесса, трактовал время и И. Кант в «Критике чистого разума» (цит. по русскому изданию [13]). Таким образом, любая попытка дать определение понятию времени неизбежно сводится лишь к бесконечному повторению одной и той же тавтологии: «Время есть время».
Но даже согласившись с великими умами прошлого в том, что во всех наших теоретических конструкциях время должно выступать в качестве первичного и неопределяемого понятия, мы можем вспомнить об опыте математики, где определение неопределяемых понятий имплицитно содержится в аксиомах, формулируемых с помощью этих понятий. Наша интуиция имеет собственную структуру, которая описывается с помощью той или иной системы аксиом. Не претендуя на построение общей формальной теории времени (для знакомства с такими теориями можно обратиться к работам по временнóй логике; см., например, [12; 18]), я хотел бы все же неформальным образом очертить здесь структуру своей интуиции времени с помощью обращения к некоторым другим столь же интуитивно-ясным понятиям.
Первым из таких понятий в нашем рассмотрении будет понятие процесса. Процесс будет пониматься нами как некая система, состоящая из элементов, которые связаны друг с другом некоторыми («процессообразующими») отношениями. Элементы процесса естественно называть событиями. Процессом является и моя собственная жизнь или мое бытие. Таким образом, то, что обычно называется словом «я», тоже можно рассматривать как процесс.
Вторым понятием, которое мы введем в качестве интуитивно-ясного, будет понятие синхронности. Синхронность будет рассматриваться нами как отношение между событиями. Синхронизация (установление синхронности между событиями разных процессов) есть гомоморфизм процессов, т. е. такое соответствие между событиями, при котором сохраняются «процессообразующие» отношения. Всякое наблюдение процесса включает в себя его синхронизацию с процессом «я» (наблюдателем). При этом события постороннего для меня процесса становятся как бы и событиями моей собственной жизни. Такая синхронизация представляется самоочевидной и не нуждающейся в каких-либо специальных методах.
Отношение синхронности обладает всеми свойствами, характеризующими отношение эквивалентности:
1) рефлексивностью: всякое событие синхронно самому себе;
2) симметричностью: если событие G синхронно событию H, то событие H синхронно событию G;
3) транзитивностью: если событие G синхронно событию H, а событие H синхронно событию I, то событие G синхронно событию I.
Таким образом, синхронность есть отношение эквивалентности и множество событий может быть разбито по этому отношению на непересекающиеся классы (классы синхронности). Ввиду того, что «процессообразующие» отношения сохраняются при синхронизации, можно считать, что между классами синхронности так же существуют некоторые отношения и, таким образом, множество классов синхронности тоже может рассматриваться как некая система. Эта система построена нами с помощью процедуры, широко известной и используемой в математике под названием факторизации (например, таким образом в теории групп вводится понятие фактор-группы), и представляет собой, так сказать, «фактор-процесс».
Понятие фактор-процесса отождествляется мной с понятием времени. Время, таким образом, - это то, что есть общего у нескольких процессов, синхронизируемых друг с другом (определения такого рода часто встречаются в математике и физике; например: мощность множества – это то общее, что есть у множеств, эквивалентных друг другу; поле – это то общее, что есть у взаимодействующих тел; и т. п.). Выбирая для синхронизации разные множества процессов, мы будем получать и разные времена c разными свойствами и отношениями между моментами (классами синхронных событий). В пределе каждый отдельный процесс может рассматриваться как самостоятельное время, если он берётся изолировано от других процессов и не синхронизируется с ними.
Легко видеть, что процедура построения времени через синхронизацию процессов вполне аналогична процедуре приведения систем, рассмотренной в предыдущем разделе. В силу этого время, рассматриваемое как фактор-процесс, всегда представляет собой неприводимую систему, удобную для измерения. Измерение времени осуществляется с помощью специальных эталонных процессов, называемых часами. Как правило, часы снабжены каким-либо циферблатом, т. е. системой цифр, делающей измерение данного процесса (сопоставление составляющих его событий с множеством действительных чисел) процедурой самоочевидной. Можно сказать, что часы измеряют сами себя. Кроме того, часы выступают в качестве измерительного эталона времени: каждому моменту времени (классу синхронных событий) ставится в соответствие то число, которое соответствовало событию часов, входящему в данный класс.
Синхронизация какого-либо процесса с часами называется хронометражем или датировкой (слово «хронометраж» употребляется, как правило, по отношению ко всему процессу в целом, а слово «датировка» - по отношению к отдельным событиям). В обыденной жизни датировки осуществляются, как правило, через процесс «я». Например, если я утверждаю, что поезд прибыл на станцию в 19 часов 20 минут, то этим констатируется синхронизация трех процессов: движения поезда, хода часов (скажем, на здании вокзала) и моей собственной жизни, которая благодаря наблюдению включает в себя и события первых двух процессов.
Время, моменты которого включают в себя события моей жизни (и которое тем самым измеряется описанным выше путем, т. е. синхронизацией различных процессов с часами через процесс «я»), называется физическим. В различных исторических науках разработаны специальные способы измерения времени без участия наблюдателя. Благодаря этому можно говорить о различных «нефизических» временах, в том числе и о специфическом геологическом времени.
3. Кризис стратиграфии
Современное состояние стратиграфии, которая понимается мной как наука о геологическом времени {2}, выглядит парадоксальным. С одной стороны, геологи, кажется, могли бы гордиться самим существованием этой отрасли их знания. Николай Стенон, которого можно считать основоположником стратиграфии, был современником Р. Декарта и И. Ньютона {3}. Таким образом, важность временнóго аспекта геологии была осознана так давно и так обстоятельно, что послужила основанием для создания отдельной научной дисциплины. Нельзя сказать, что существует отдельная наука о физическом, или о биологическом, или даже об историческом времени. А вот отдельная наука о геологическом времени существует, и называется она стратиграфией.
Но с другой стороны, стратиграфия до настоящего времени остается крайне плохо разработанной в теоретическом отношении. Теорию стратиграфии нигде не преподают. В ней фактически отсутствуют какие-либо устоявшиеся и общепризнанные положения, которые можно было бы передавать от одного поколения исследователей к другому и включать в учебники. Соответственно, нет и учебников. Нет даже хороших обобщающих монографий. Лучше других – книга С. В. Мейена «Введение в теорию стратиграфии», депонированная в ВИНИТИ в 1974 г. и изданная в 1989 г. уже после смерти автора [24], хотя и она не свободна от некоторых весьма существенных недостатков. Выражаясь языком Т. Куна [19], можно сказать, что у стратиграфии нет своей парадигмы. Состояние ее теории можно уподобить состоянию геометрии в древнем Египте: эта теория сводится к набору рецептов с неопределенными границами применимости и неизвестными взаимосвязями. Вот уже три с половиной века стратиграфия ждёт своего Евклида.
По-видимому, до конца XIX в. теорию стратиграфии вообще никто специально не разрабатывал. Мейен начинает свою книгу цитатой из статьи С. Н. Никитина и Ф. И. Чернышёа, в которой они сетуют на то, что каждому стратиграфу «…поручено сооружение одного этажа, каждый заботился только о скреплении этого этажа по силе разумения своего с этажом предыдущим, но никто не слазил посмотреть, на чем держится все здание» [27, стр. 138]. Параллельно, так же со второй половины XIX в. [37] и вплоть до конца XX-го [33] бытует мнение о принципиальной «нелогичности» стратиграфии, а следовательно, и невозможности построить для нее удовлетворительную теорию. Мейен (так же, впрочем, как и Ю. С. Салин) видел причину отсутствия стратиграфической парадигмы в расплывчатости многих используемых понятий, в том числе и тех, которые играют роль фундаментальных. Однако, публикация его собственной книги, призванной (по крайней мере, с точки зрения автора) прояснить и чётко очертить смысл этих понятий, мало что изменила в «дискуссионном поле» теоретической стратиграфии (см., например, [30]). Не разделяя пессимизма Спенсера–Салина, я думаю, что подлинная причина «теоретико-стратиграфического хаоса» заключается не только и не столько в терминологической нечёткости, сколько в том интуитивном общем представлении о времени, которое господствует в умах стратиграфов на протяжении всей истории стратиграфии.
В геологии эта первичная интуиция (в дальнейшем мы будем называть её наивным представлением о времени) приходит в противоречие с некоторыми эмпирическими фактами. Разрешение возникающих противоречий возможно путём различных модификаций наивного представления о времени, но поскольку это представление (в силу своей интуитивности) остаётся не эксплицированным, то всякая такая модификация вызывает отторжение со стороны всех остальных (за исключением её автора) участников дискуссии. Поэтому кажется разумным начать наше рассмотрение проблемы геологического времени с происхождения и аксиоматического описания наивного представления о времени вообще.
II. Роль измерений в истории естествознания. «Тройной изоморфизм» Ньютона
1. Аналитическая геометрия и «геометрический анализ»
Идея о том, что в основе мироздания лежат числа, обычно приписывается Пифагору [41]. Наука Нового времени получила «прививку» пифагорейства уже в самом начале своего существования – от Галилея, которого считают одним из отцов этой науки. «Тот, кто хочет решать вопросы естественных наук без помощи математики, ставит неразрешимую задачу. Следует измерять то, что измеримо, и делать измеримым то, что таковым не является», – писал Галилей [цит. по 17, стр. 14], и данный методологический принцип приобрёл в дальнейшем широкую популярность, найдя отражение даже в словах известной детской песенки:
Раз, два, три, четыре, пять,
Шесть, семь, восемь, девять, десять…
Можно всё пересчитать,
Всё измерить и всё взвесить:
Сколько лодочек на море,
Сколько зёрен в помидоре,
Сколько в комнате дверей,
В переулке фонарей.
Если перевести этот принцип на язык теории измерений, то можно сказать, что Галилей считал все существующие в мире отношения выразимыми через отношения между числами.
Декарт, младший современник Галилея, продемонстрировал полное и максимально последовательное приложение его принципа к другому (отличному от арифметики) разделу математики – он создал аналитическую геометрию. Существование аналитической геометрии порождает ряд важных методологических вопросов, поэтому на основаниях этой дисциплины стóит остановиться подробнее.
Аналитическая геометрия может рассматриваться как пример полной редукции одной математической дисциплины к другой: все неопределяемые понятия геометрии определены в ней через понятия арифметики таким образом, что все аксиомы геометрии оказываются истинными (справедливыми, доказуемыми) теоремами арифметики. Геометрия тем самым превращается в частный раздел арифметики – учение об упорядоченных тройках действительных чисел. В связи с этим возникает вопрос: действительно ли арифметика есть теория более общая, чем геометрия, и если да, то почему геометрия продолжает существовать в качестве вполне самостоятельного раздела математики и спустя три с половиной века после публикации трудов Декарта? Или, может быть, обе эти дисциплины (геометрия и арифметика) имеют одинаковый уровень общности и обе, как любят говорить математики, могут служить моделями друг для друга? Но модель никогда не тождественна тому, что она моделирует, а всегда лишь сходна с ним в отношении некоторых свойств, оставаясь отличной от моделируемого объекта по каким-то другим свойствам. Если геометрия и арифметика сосуществуют параллельно на протяжении многих веков, то, скорее всего, они все же чем-то отличаются друг от друга. Но чем? Как эти отличия выражены в аксиоматике той и другой дисциплины?
Чтобы приблизиться к ответам на эти вопросы, попробуем сначала совершить редукцию «в обратную сторону» (по сравнению с редукцией Декарта) и построить по образу и подобию аналитической геометрии «геометрический анализ», т. е. определить неопределяемые понятия арифметики через понятия геометрии таким образом, чтобы все арифметические аксиомы стали бы доказуемыми геометрическими теоремами. В математической литературе мне не встречалось подобного построения и ниже я приведу его несмотря на то, что с математической точки зрения оно вполне тривиально. Однако, сначала необходимо выяснить вопрос о том, чтó следует считать аксиомами арифметики.
В отличие от геометрии, первая аксиоматика которой была построена еще Евклидом (IV в. до н. э.), арифметика долго развивалась на чисто интуитивной основе, и формулировку её аксиом обычно связывают с трудами Дж. Пеано, появившимися лишь в конце XIX в. Работы Пеано, к сожалению, отсутствуют в русском переводе и остались недоступными для меня в оригинале. Поэтому его аксиоматику я привожу по книгам С. К. Клини [14; 15]. Пеано вводит три неопределяемых понятия – число (натуральное), единица и следующее число, а также следующие пять аксиом:
A1. Единица есть число.
A2. Для всякого числа существует следующее число и притом только одно (т. е. если число a следует за числом b, то не существует никакого числа c, отличного от a, которое следовало бы за b).
A3. Если число a следует за числом b, то не существует никакого числа c, отличного от b, такого что a следовало бы за c (т. е. для всякого числа существует не более одного, предшествующего ему).
A4. Единица не следует ни за каким числом.
A5 (принцип индукции). Если некоторое утверждение справедливо для единицы и из того, что оно справедливо для некоторого числа, следует, что оно справедливо и для следующего за ним числа, то это утверждение справедливо для любого числа.
Принятие аксиомы A5 позволяет формулировать в рамках системы Пеано так называемые «индуктивные» определения: мы определяем некоторое понятие для единицы, предполагаем, что это понятие определено для какого-то натурального числа, и затем, исходя из сделанного предположения, определяем его для следующего натурального числа; тем самым в силу принципа индукции данное понятие оказывается определенным для любого натурального числа.
Например, понятие суммы двух натуральных чисел (или операции сложения) можно определить таким образом. Суммой чисел a и b называется число c, обладающее следующими свойствами:
а) если b есть единица, то c есть число, следующее за a;
б) если b есть число, следующее за числом n, то c есть число, следующее за суммой чисел a и n.
Аналогично определяются и такие арифметические операции как умножение и возведение в степень. Свойства арифметических операций (ассоциативность и коммутативность сложения и умножения, а также дистрибутивность умножения относительно сложения) могут быть доказаны как теоремы на основании аксиом A1 – A5 и соответствующих определений.
Попробуем теперь изложить эти аксиомы (A1 – A5) на языке геометрии {4}. В качестве понятийно-аксиоматического языка геометрии я буду использовать аксиоматику Д. Гильберта [5] – наиболее полную из известных мне. Доказательства некоторых теорем (очевидных или не играющих важной роли в осуществляемом описании) опущены для краткости.
Согласно аксиоматике Гильберта существуют различные точки A, B, C и D, такие, что не существует никакой плоскости, которая содержала бы их все.
Определение 1. Нулём (0) называется точка A.
Определение 2. Единицей (1) называется точка B.
Согласно аксиоматике Гильберта существует прямая l, содержащая точки A и B, причём никакая другая прямая (отличная от l) не содержит обе эти точки.
Определение 3. Прямая l, содержащая точки A и B, называется числовой прямой.
Определение 4. Числами (действительными) называются точки числовой прямой.
Очевидно, что 0 и 1 суть числа.
Определение 5. Число M называется отрицательным, если 0 лежит между M и 1.
Определение 6. Все неотрицательные числа кроме 0 называются положительными.
Очевидно, что положительные числа существуют (например, 1). Таким образом, точки числовой прямой делятся на непересекающиеся классы: положительные числа, отрицательные числа и 0.
Определение 7. Пусть M и N – числа. Переместим отрезок AM вдоль числовой прямой таким образом, чтобы точка A совпала с точкой N. Тогда точка M займет на числовой прямой новое место, соответствующее некоторому числу M’. Назовём число M’ суммой чисел N и M. Обозначать это будем так: M’ = N + M.
Теорема 1. Операция сложения (получения суммы) чисел коммутативна, т. е. для любых чисел M и N
N + M = M + N.
Теорема 2. Операция сложения чисел ассоциативна, т. е. для любых чисел L, M и N
L + (M + N) = (L + M) + N.
Определение 8. Будем называть число натуральным, если оно может быть получено в результате сложения единицы с самой собой. Саму единицу также будем считать натуральным числом.
Определение 9. На множестве чисел определим бинарное отношение < (меньше):
а) никакое число не меньше самого себя;
б) любое отрицательное число меньше любого неотрицательного;
в) ноль меньше любого положительного числа;
г) если M и N – различные отрицательные числа, то M < N тогда и только тогда, когда N лежит между 0 и M;
д) если M и N – различные положительные числа, то M < N тогда и только тогда, когда M лежит между 0 и N.
Теорема 3. Отношение < есть отношение строгого порядка, т. е., учитывая пункт (а) определения 9, если L < M, а M < N, то L < N.
Замечание 1. Как всякое отношение строгого порядка отношение < асимметрично, т. е. если M < N, то неверно, что N < M.
Замечание 2. Из определения 9 и теоремы 3 очевидно следует, что множество чисел линейно упорядоченно по отношению <, т. е. для любых различных чисел M и N справедливо либо M < N, либо N < M.
Теорема 4. Если 0 < M (т. е. М – положительное число), то для любого числа N
N < N + M.
Замечание 3. В силу первой аксиомы конгруэнтности

Гильберта, а также нашей теоремы 4 и с учетом замечания 2 всегда можно установить, является ли данное число натуральным, или нет, даже не обращаясь к аксиоме измеримости

Учитывая же эту аксиому, можно легко доказать следующий критерий.
Теорема 5. Если 0 < M, то M не является натуральным числом тогда и только тогда, когда существует такое натуральное число N, что
N < M < N + 1.
Определение 10. Если N – натуральное число, то число N + 1 (очевидно, тоже натуральное) будем называть числом, следующим за N. Само число N будем при этом называть предшествующим числу N + 1.
Замечание 4. Из определения 10 и теоремы 2, очевидно, следует эквивалентность определения 7 и данного выше «индуктивного» определения суммы двух натуральных чисел.
Теорема 6. Для всякого натурального числа существует единственное следующее натуральное число.
Доказательство. Существование следующего натурального числа непосредственно вытекает из первой аксиомы конгруэнтности

Гильберта [5]. Доказательство единственности этого числа аналогично доказательству однозначности откладывания отрезков в той же работе.
Теорема 7. Единица не следует ни за каким натуральным числом.
Теорема 8. Для всякого натурального числа кроме единицы существует единственное предшествующее натуральное число.
Доказательство аналогично доказательству теоремы 6.
Лемма 1. В любом конечном множестве чисел существует наименьшее число (т. е. такое, которое меньше всех других чисел из этого множества).
Доказательство проведем, используя аппарат теории множеств, поскольку эта теория не опирается ни на понятие числа, ни на понятие точки и может рассматриваться как предшествующая по отношению и к арифметике, и к геометрии. Пусть Z есть произвольное конечное множество чисел. Рассмотрим произвольный элемент этого множества – E. Если в множестве Z нет элементов, которые были бы меньше E, то E – наименьший элемент. Пусть такие элементы есть. Обозначим их множество через

Очевидно, что в множестве Z существуют элементы, не принадлежащие

(например, E), т. е.

есть собственное подмножество множества Z:
 .
.
Кроме того, в силу транзитивности отношения < (теорема 3) любой элемент множества

меньше любого элемента множества Z, не принадлежащего

Рассмотрим произвольный элемент множества

F. Если в множестве

нет элементов, которые были бы меньше F, то F – наименьший элемент. Пусть такие элементы есть. Обозначим их множество через

Очевидно, что любой элемент множества

меньше любого элемента множества Z, не принадлежащего

и что множество

есть собственное подмножество множества

 .
.
Рассуждая дальше аналогичным образом, получим цепочку множеств, упорядоченную по отношению включения:

Каждому множеству в этой цепочке за исключением множества Z поставлен в соответствие некоторый элемент множества Z, причем никакой элемент не поставлен в соответствие разным множествам. Следовательно, поскольку множество Z конечно, то рассматриваемая цепочка множеств тоже конечна и в ней имеется последнее множество –

Рассмотрим произвольный элемент этого множества – W. Если бы в множестве

были элементы, меньшие, чем W, то оно не было бы последним в цепочке. Следовательно, W есть наименьший элемент в множестве

а значит – и во всем множестве Z.
Лемма 2. В любом непустом множестве натуральных чисел существует наименьший элемент.
Доказательство. Пусть Z есть некоторое непустое множество натуральных чисел. Возьмём произвольный элемент этого множества N. Если N = 1, то согласно теоремам 4 и 7 N есть наименьшее число в множестве Z. Если же N не есть единица, то согласно аксиоме измеримости

по Гильберту) существует конечное множество натуральных чисел, меньших, чем N. Обозначим это множество через Y. Если в множестве Z существуют такие элементы M, что N < M, то очевидно, что любой элемент из Y меньше любого числа M. Пусть X = Y ∩ Z. Если X = Ø, то очевидно, что N есть наименьший элемент в Z. Если множество X не пусто, то оно, несомненно, есть конечное множество (т. к. Y – тоже конечное множество). Тогда по лемме 1 в нем есть наименьший элемент. Этот элемент, очевидно, является наименьшим и для всего множества Z.
Теорема 9 (принцип индукции). Если некоторое утверждение справедливо для единицы и из того, что оно справедливо для натурального числа N, следует, что оно справедливо для числа N + 1, то это утверждение справедливо для любого натурального числа.
Доказательство (методом от противного). Пусть Q есть некоторое утверждение, удовлетворяющее условиям теоремы, т. е. оно справедливо для единицы и из того, что оно справедливо для произвольного натурального числа N, следует, что оно справедливо для N + 1. Допустим, что существует непустое множество натуральных чисел Z, для которых утверждение Q не выполняется. Тогда согласно лемме 2 в множестве Z существует наименьшее число M. Поскольку по условиям теоремы утверждение Q справедливо для единицы, то M не является единицей. Следовательно, по теореме 8 существует такое натуральное число N, что M = N + 1, а согласно теореме 4 N < M. Значит, поскольку M есть наименьше число в множестве Z, число N к множеству Z не принадлежит. Следовательно, для него выполняется утверждение Q. Но тогда по условиям теоремы это утверждение выполняется и для числа N + 1, т. е. для M, что противоречит утверждению о принадлежности M к множеству Z. Полученное противоречие доказывает теорему 9.
Таким образом, нам удалось редуцировать арифметику Пеано (т. е. арифметику натуральных чисел) к геометрии. Неопределяемые понятия Пеано заданы нашими определениями 2, 8 и 10, а его аксиомы соответствуют в нашем изложении определению 8, а также теоремам 6 – 9. Дальнейшие расширения предмета арифметики (алгебры чисел) до множества целых, рациональных и действительных чисел так же находят свои аналогии в геометрии числовой прямой. Хотя на интуитивном уровне может казаться, что арифметика и геометрия описывают разные «миры», однако, между этими «мирами» существует глубокий изоморфизм. Для его описания необходимо и достаточно рассмотрения двух отношений, которые Гильберт [5] ввел в качестве неопределяемых в аксиоматику геометрии (отношения «между» и отношения конгруэнтности интервалов или равенства разностей, если речь идет о числах), а также свойства непрерывности {5}. Этот изоморфизм выражается в существовании аналитической геометрии и «геометрического анализа», а также «смешанных» разделов внутри каждой из рассматриваемых дисциплин (внутри геометрии таким разделом, использующим арифметические понятия и методы, является учение об измерении расстояний, площадей и объемов, а внутри арифметики – учение о тригонометрических функциях, опирающееся на геометрическое понятие угла). Некоторые из практических задач, с которыми нам приходится сталкиваться, легче формулируются и решаются на языке геометрии, а некоторые – на языке арифметики. Это обстоятельство и обуславливает параллельное сосуществование обеих дисциплин на протяжении всей истории математики.
2. «Наивное» время и его измерение
Ньютон, родившийся в год смерти Галилея и за восемь лет до смерти Декарта, явился достойным продолжателем их дела. Широко известно его изречение: «Я видел далеко, потому что стоял на плечах гигантов». По-видимому, именно интеллектуальные результаты Галилея и Декарта послужили Ньютону источником вдохновения для окончательного оформления той (субстанциональной) концепции времени, основы которой были заложены еще древнегреческими философами милетской школы [36] и которая ныне чаще называется ньютоновской. Ньютон понимал время как некую абсолютную равномерную (т. е. однородную, симметричную в смысле равноправия всех своих элементов) длительность, в которую погружены все процессы, протекающие в мире, и называл такое время «математическим» [42]. Очевидно, собственные свойства времени мыслились им как изоморфные свойствам направленной прямой (оси) и множества действительных чисел. Тем самым изоморфизм, намеченный Галилеем и Декартом, стал тройным: к множествам чисел и точек добавилось множество моментов времени.
Теперь, после того, как мы построили «геометрический анализ», нам будет очень просто записать систему аксиом, которая «по образу и подобию» прямой линии и множества действительных чисел описывала бы наивное представление о времени. В качестве неопределяемых будем рассматривать понятия «момент времени», «раньше» (бинарное отношение на множестве моментов времени) и «конгруэнтность» (бинарное отношение на множестве интервалов времени; само понятие интервала времени неопределяемым не является, и его определение будет дано ниже).
Аксиома T1. Существует, по крайней мере, два {6} момента времени.
Аксиома T2. Если K и L – различные моменты времени, то можно говорить, что момент K наступает раньше момента L, в том и только том случае, когда неверно, что момент L наступает раньше момента K.
Аксиома T3. Если момент K наступает раньше момента L, а момент L – раньше момента M, то момент K наступает раньше, чем момент M.
Из аксиом T2 и T3 вытекает, что отношение «раньше» есть отношение строгого порядка и, следовательно, обладает свойством антирефлексивности: никакой момент времени не наступает раньше самого себя.
Если момент K наступает раньше момента L, то интервалом времени (K; L) будем называть множество моментов M, таких что момент K наступает раньше момента M, а момент M – раньше момента L.
Аксиома T4. Если (K; L) – интервал времени, а M – произвольный момент, то существуют такие моменты N и N’, что момент M наступает раньше момента N, момент N’ наступает раньше момента M и при этом оба интервала (M; N) и (N’; M) конгруэнтны (т. е. равны) интервалу (K; L).
Аксиома T5. Если интервалы (K’; L’) и (K’’; L’’) конгруэнтны одному и тому же интервалу (K; L), то интервал (K’; L’) конгруэнтен также интервалу (K’’; L’’).
Аксиомой T5 утверждается транзитивность отношения конгруэнтности на множестве интервалов времени. На основании аксиом T1 – T5 может быть доказана также рефлексивность (всякий интервал конгруэнтен самому себе) и симметричность [если интервал (K; L) конгруэнтен интервалу (K’; L’), то интервал (K’; L’) конгруэнтен интервалу (K; L)] этого отношения. Таким образом, отношение конгруэнтности интервалов времени есть отношение эквивалентности.
Аксиома T6 (аксиома измеримости). Пусть (K; L) и (M; N) – два каких-нибудь интервала времени. Тогда существует конечное множество моментов времени

таких, что момент K наступает раньше момента

момент

раньше момента

момент

раньше момента

момент

раньше момента

момент L принадлежит интервалу

и при этом все интервалы

конгруэнтны интервалу (M; N).
Аксиома T7 (аксиома полноты). Моменты времени образуют систему, которая при сохранении аксиом T1 – T6 не допускает никакого расширения, т. е. к этой системе моментов невозможно прибавить еще моменты так, чтобы в системе, образованной первоначальными и добавленными моментами, выполнялись бы все указанные аксиомы.
Время, описанное данной системой аксиом, обладает, очевидно, следующими фундаментальными свойствами, вытекающими из его изоморфизма множеству действительных чисел и прямой линии:
1. Континуальность. Множество моментов времени имеет мощность континуума.
2. Упорядоченность. Множество моментов времени линейно упорядочено отношением строгого порядка «раньше». Это отношение естественным образом задает на множестве моментов времени интервальную топологию, так что данное множество может рассматриваться как топологическое пространство.
3. «Уплотнённость». Между любыми двумя моментами времени (отношение «между» естественным и очевидным образом определяется через отношение «раньше») всегда существует третий момент {7}.
4. Связность. Время представляет собой связное топологическое пространство.
5. Однородность. Время обладает «трансляционной» симметрией, т. е. все его свойства инвариантны относительно любого переноса из одного момента в другой. В этом смысле все моменты времени «равноправны», т. е. в каждый момент время обладает такими же свойствами, как и в любой другой. В физике однородность времени рассматривается как чрезвычайно важное свойство: согласно теореме Нетер из неё выводится закон сохранения энергии [2]. Однако, поскольку теорема, обратная к теореме Нетер, неверна, нарушение этого свойства может и не приводить к нарушению закона сохранения энергии и в нашем мире, где энергия, безусловно, сохраняется, физическое время, вообще говоря, не обязано быть однородным.
Понятно, что измерение (т. е. соотнесение с множеством действительных чисел) «наивного» времени должно быть очень простым ввиду глубокого сходства между обоими множествами, заложенного в самое основание концепции «наивного» времени ещё Ньютоном при её создании. Рассматривая измерение времени в рамках теории измерений, в качестве эмпирической системы следует, очевидно, рассматривать множество моментов времени с заданными на нём отношениями. Одним из таких «системообразующих» отношений будет отношение «раньше», а вторым – отношение между моментами, задаваемое тем отношением, которое мы рассматривали на множестве временных интервалов и называли конгруэнтностью. Для того, чтобы отличить это второе отношение между моментами от отношения между интервалами, а также от отношения конгруэнтности между элементами эмпирической системы, часто рассматриваемого в теории измерений, введём для его обозначения специальный термин – эквилататность (от лат. aequilatatio – равное расстояние). Эквилататность, таким образом, есть четырёхместное отношение на множестве моментов времени, однозначно определяемое следующим условием: если два интервала времени конгруэнтны друг другу (и только в этом случае), то концы этих интервалов находятся друг с другом в отношении эквилататности.
Определенная таким образом эмпирическая система «наивного» времени является неприводимой в силу линейной упорядоченности множества моментов по отношению «раньше». Шкала такого времени будет представлять собой изоморфизм, где отношению «раньше» между моментами соответствует отношение «меньше» (или «больше») между числами, а отношению эквилататности – отношение, определяемое равенством разностей двух пар чисел.
Для практического построения шкалы (т. е. измерения) времени используются различные приборы, называемые часами. Действие подавляющего большинства часов основано на некоторых периодических процессах, обеспечивающих конгруэнтность временных интервалов (и тем самым эквилататность моментов). Связано это, по-видимому, с особенностями нашей временнóй интуиции, основу которой составляет память: только благодаря памяти мы вообще знаем о существовании времени. В нашей памяти хранятся не только следы тех впечатлений, которые мы получили от внешнего мира, но и представления о порядке, в котором мы эти впечатления получали. Вероятно, поэтому мы вслед за Ньютоном склонны уподоблять время не просто прямой линии, а именно направленной прямой (оси). По той же причине в вышеприведенной аксиоматике «наивного» времени в качестве неопределяемого понятия, задающего топологию, вводится отношение «раньше», а не отношение «между», как это было сделано для прямой линии в аксиоматике Гильберта [5].
Упорядоченную последовательность образов, хранящуюся в памяти, можно назвать субъективным временем. При этом мы, в основном, склонны доверять своей памяти в отношении того, «чтó было раньше, а чтó – потóм», но такие понятия, как «давно» или «скоро», обычно считаются «субъективными» и плохо определёнными. Другими словами можно сказать, что у нас хорошо развита интуиция отношения «раньше» и плохо – интуиция отношения эквилататности. Поэтому при измерении времени мы обычно стараемся как-то «объективировать» конгруэнтность временных интервалов, тогда как отношение «раньше» в такой объективации не нуждается, будучи очевидным на интуитивном уровне. Функцию объективации отношения эквилататности как раз и выполняют периодические процессы, лежащие в основе измерения времени: мы можем считать конгруэнтными интервалы времени, разделяющие одинаковые стадии того процесса, на котором основано действие применяемых нами часов. При этом в качестве эмпирического факта можно отметить существование большого числа часов, которые идут равномерно друг относительно друга [42]: отношение эквилататности во временах, измеряемых разными часами, сохраняется (хотя бы приблизительно) при синхронизации этих часов друг с другом.
1-ый закон Ньютона констатирует равномерность друг относительно друга перемещения в пространстве любых двух тел, на которые не действуют никакие внешние силы. Этот закон, по-видимому, можно также распространить на процессы вращения тел (например, Земли) вокруг собственной оси. Вероятно, та же «универсальная равномерность» является причиной и отмеченного существования большого числа часов, идущих равномерно друг относительно друга.
Равномерность – это как раз та общность процессов, выражением которой является понятие «наивного» времени, получившего от Ньютона «титул» математического или абсолютного.
Очевидно, что описанные выше шкалы времени инвариантны относительно любых линейных преобразований, однако, существуют монотонные непрерывные преобразования (нелинейные), недопустимые для них. В самом деле, пусть, например, K, L, M и N – моменты времени, находящиеся в отношении эквилататности, а μ – какая-нибудь шкала «наивного» времени. Тогда:
μ(L) – μ(K) = μ(N) – μ(M).
Рассмотрим нелинейную числовую функцию . Хотя эта функция монотонна и непрерывна, но соотношение
. Хотя эта функция монотонна и непрерывна, но соотношение
f[μ(L)] – f[μ(K)] = f[μ(N)] – f[μ(M)]
может, вообще говоря, и не выполняться [например, если μ(K) = 1, μ(L) = 2, μ(M) = 3, а μ(N) = 4: 2 - 1 = 4 - 3, но 8 – 1 ≠ 64 – 27]. Следовательно, композиция отображений не является шкалой «наивного» времени, а шкала μ не инвариантна относительно преобразования f.
Таким образом, можно констатировать, что «наивное» время измеряется в шкалах интервалов.
Концепция «наивного» времени безраздельно господствовала в физике (и во всем остальном естествознании) на протяжении более трёхсот лет. Именно это обстоятельство позволяло записывать динамические (т. е. такие, где в качестве измеряемой величины фигурирует время) законы физики в виде дифференциальных уравнений {8}. И лишь в физике XX века основные свойства «наивного» времени начали ставиться под сомнение. Так линейная упорядоченность времени опровергается парадоксом близнецов, сформулированным в рамках теории относительности; космогоническая теория Большого взрыва говорит о начале времени и тем самым – о его неоднородности (наличии «сингулярностей»); гипотеза «дискретного» времени, порожденная квантовой механикой, отрицает сразу три свойства, рассматривавшиеся нами как фундаментальные для «наивного» времени: континуальность, уплотнённость и связность. Однако, насколько мне известно, измеряется физическое время до сих пор почти исключительно в шкалах интервалов. Впрочем, анализ современных представлений о физическом времени выходит за рамки, определяемые целями настоящей работы. Поэтому мы перейдём теперь к рассмотрению собственно геологического времени.
До сих пор все попытки построить корректную стратиграфическую теорию опирались исключительно на «наивные» представления о времени. Поэтому для того, чтобы сделать изложение более понятным в рамках сложившейся традиции, я тоже начну с описания некоторой «наивной» концепции, опирающейся на теорию Мейена [24] и кратко изложенной мною ранее [7]. Данный подход позволит наиболее рельефно выявить те противоречия, с которыми неизбежно сталкивается такая теория, и те её модификации, которые оказываются необходимыми для преодоления этих противоречий.
Примечания
{1} Это отношение, вообще говоря, может и не входить в множество S, т. е. не быть «системообразующим».
{2} Очень важная оговорка. Как в организационном, так и в методико-результативном аспектах стратиграфия подразделяется на две дисциплины, в значительной степени независимые друг от друга, – относительную и абсолютную геохронологию. В рамках абсолютной геохронологии для измерения времени используются следы сложных и «тонких» физических процессов: радиоактивного распада некоторых изотопов, термолюминесценции некоторых неорганических соединений и др. Соответственно, время в абсолютной геохронологии измеряется в шкалах отношений, а датировки выражаются в привычных нам единицах измерения, т. е. в годах (хотя «привычность» эта в значительной степени иллюзорна: «обыкновенные» годы и годы, используемые в абсолютной геохронологии, в действительности суть омонимы, поскольку в абсолютной геохронологии для измерения времени используются совсем другие процессы, чем вращение Земли вокруг Солнца – процесс, служащий для определения «обыкновенного» года). В рамках же относительной геохронологии вся история Земли (или какого-то отдельного участка земной поверхности) разделена на определенные интервалы, называемые стратонами, каждому из которых присвоено собственное имя, а датировка какого-либо геологического объекта или события заключается в том, что этот объект или событие относится к тому или иному стратону. Всё дальнейшее содержание настоящей статьи касается лишь относительной геохронологии и не имеет никакого отношения к абсолютной.
{3} Интересно (особенно в свете полемики с креационистами, на религиозных основаниях отвергающими всю стратиграфию), что Стенон был католическим епископом, а в 1988 г. он был беотифицирован папой Иоанном-Павлом II.
{4} Я принципиально не касаюсь здесь вопроса о полноте данной аксиоматики. В 1931 г. К. Гёдель доказал известную теорему, согласно которой никакая система аксиом арифметики не может быть полной, что породило среди многих ученых скепсис по отношению к аксиоматическому методу вообще. Ю. И. Манин, обсуждая вопрос, далеко ли от выводимости до истинности, приходит к заключению: «…Очень далеко» [22, cтр. 86], т. е. множество утверждений, выводимых из любой системы аксиом арифметики, оказывается, по его мнению, неизмеримо более «бедным», чем множество всех арифметических утверждений. Однако, если бы это действительно было так, то мы в своих практических обращениях к арифметике, вероятно, сталкивались бы с «гёделевскими» (т. е. недоказуемыми и неопровержимыми) утверждениями на каждом шагу, чего на самом деле не происходит. Насколько мне известно, единственное реальное «гёделевское» арифметическое утверждение было обнародовано (да и то не найдено, а специально построено) лишь полвека спустя после доказательства теоремы Гёделя. Так что существующие системы аксиом арифметики оказываются «достаточно» полными для всех практических приложений, в том числе и для целей настоящей работы.
{5} Этим свойством не обладают множества натуральных, целых и рациональных чисел, но обладает множество действительных чисел. В арифметику оно вводится с помощью специальной аксиомы, называемой принципом Дедекинда. В геометрии же непрерывность прямой является следствием аксиомы полноты

по Гильберту).
{6} Поскольку мы не собираемся редуцировать арифметику или геометрию к «теории наивного времени», а всего лишь хотим показать глубокое подобие, существующее между этими теориями, то здесь (в отличие от «геометрического анализа») мы можем считать уже заданными все понятия и аксиомы как геометрии, так и арифметики и использовать их в своём построении.
{7} Для обозначения данного свойства времени кажется естественным употреблять слово «плотность», и именно так поступал, например, А. Грюнбаум [8]. Однако в топологии этим словом обозначается совсем другое понятие. С другой стороны, в математической литературе мне не удалось найти термина, обозначающего это свойство линейно упорядоченных множеств, которое представляется важным во многих аспектах (им, например, обладает множество рациональных чисел, но не обладает равномощное ему множество натуральных чисел). Поэтому здесь и далее данное свойство придётся обозначать с помощью искусственного введения достаточно неуклюжего термина «уплотнённость».
{8} В свете описанной концепции «наивного» времени, для которого существенно не только отношение «раньше», но также и отношение эквилататности, невозможно согласиться с мнением Салина [34, cтр. 13] относительно бесспорности утверждения А. Бергсона о том, что время в физике нужно лишь «для упорядочения множества событий».
Окончание следует.

Особенности геологического времени рассматриваются в сравнении с представлениями, составляющими «ньютоновскую» или «наивную» концепцию времени. Наиболее рельефно различия между двумя временами выступают в процедуре измерения того и другого, рассматриваемой в свете математической теории измерений. Показано, что стратиграфические шкалы являются также шкалами в смысле теории измерений, а именно – шкалами порядка, тогда как «наивное» время (так же, как и физическое) измеряется обычно в шкалах интервалов.
O tempora, o mores!
M. Tullius Cicero
M. Tullius Cicero
I. Введение. Теоретические предпосылки
1. Основные положения теории измерений
Традиционно измерение различных величин в естествознании было прерогативой физики. В других естественных науках (иногда даже называемых «качественными» в противоположность «количественной» физике), как правило, измерения или вообще не проводились, или измерялись величины, тесно и очевидным образом связанные с физическими. Положение кардинально изменилось в XX веке, когда во многих областях знания стали измеряться величины, редукция которых к физическим величинам была, по меньшей мере, не очевидной. Пальма первенства в этой сфере деятельности принадлежит, по-видимому, психологии, однако, немалый вклад был сделан также биологической систематикой (см., например, [43]). В середине XX в. все это привело к возникновению и бурному развитию специальной теории измерений – математической дисциплины, исследующей специфику различных измерительных процедур [16; 31]. Поскольку некоторые понятия и результаты этой теории будут широко использоваться нами в дальнейшем изложении, здесь имеет смысл хотя бы кратко остановиться на основных ее положениях.
Исходным для этой теории является понятие системы, которая рассматривается как множество элементов (вообще говоря, произвольной природы), на котором заданы некоторые отношения. Обозначаются системы как (Z; S), где Z есть множество элементов системы, а S – множество отношений, заданных на множестве Z. Если элементами системы являются (какие-нибудь, не обязательно все) действительные числа, то такая система называется числовой.
Всякий элемент любой системы может быть охарактеризован множеством тех отношений, в которых он участвует. Это множество можно, очевидно, отождествить с функцией данного элемента в данной системе. Вообще говоря, в системе могут существовать разные элементы с одинаковыми функциями, т. е. участвующие в одних и тех же отношениях. Для системы такие элементы являются взаимозаменяемыми, их обычно называют конгруэнтными. Отношение конгруэнтности элементов {1}, очевидно, обладает свойствами рефлексивности (каждый элемент конгруэнтен сам себе), симметричности (если элемент x конгруэнтен элементу y, то элемент y так же конгруэнтен элементу x) и транзитивности (если два элемента x и y конгруэнтны третьему элементу z, то они так же конгруэнтны друг другу). Отношения, обладающие такими свойствами, называются отношениями эквивалентности. Таким образом, отношение конгруэнтности элементов системы есть частный случай отношения эквивалентности. В теории бинарных отношений [44] существует теорема, согласно которой всякое отношение эквивалентности, заданное не некотором множестве, порождает разбиение этого множества на непересекающиеся подмножества. Следовательно, всякая система неким естественным образом порождает разбиение множества своих элементов на непересекающиеся подмножества – так называемые классы конгруэнтности. Система называется неприводимой, если она не имеет различных элементов, конгруэнтных друг другу, т. е. функция каждого ее элемента уникальна и каждый класс конгруэнтности состоит из одного-единственного элемента.
Если имеется две системы, например,
 и
и  , то можно построить отображение f множества
, то можно построить отображение f множества  в множество
в множество  , т. е. каждому элементу x множества
, т. е. каждому элементу x множества  поставить в соответствие какой-нибудь (и только один!) элемент множества
поставить в соответствие какой-нибудь (и только один!) элемент множества  , обозначаемый в этом случае как f(x). Если при этом «сохраняются» системообразующие отношения (т. е. каждому элементу множества
, обозначаемый в этом случае как f(x). Если при этом «сохраняются» системообразующие отношения (т. е. каждому элементу множества  оказывается поставленным в соответствие какой-нибудь элемент множества
оказывается поставленным в соответствие какой-нибудь элемент множества  ), то такое отображение называется гомоморфизмом и обозначается следующим образом:
), то такое отображение называется гомоморфизмом и обозначается следующим образом: .
.Если отображение f множества
 в множество
в множество  и множества
и множества  в множество
в множество  является взаимно однозначным, то такой гомоморфизм называется изоморфизмом.
является взаимно однозначным, то такой гомоморфизм называется изоморфизмом.Главным понятием теории измерений является понятие шкалы (иногда её даже называют теорией шкал). Шкалой называется гомоморфизм неприводимой эмпирической системы в числовую систему. В качестве эмпирической системы при этом рассматривается система значений анализируемого признака. Например, если мы изучаем такой признак как яркость у каких-либо источников света, то мы можем заметить, что эти источники не просто отличаются друг от друга по своей яркости, но и то, что эти разные значения яркости находятся друг с другом в определенных отношениях. Скажем, источник θ кажется нам более ярким, чем источник λ, но менее ярким, чем источник η. Это значит, что яркость источника θ находится между яркостью источника λ и яркостью источника η. Словом «между» в данном случае выражается некоторое отношение, заданное на множестве наблюдаемых значений яркости. Шкалой яркости в данном случае будет, например, такое отображение этих значений в множество действительных чисел, при котором число, соответствующее яркости источника θ, будет больше, чем число, соответствующее яркости источника λ, но меньше, чем число, соответствующее яркости источника η: отношение «между» на множестве значений яркости перейдет в отношение «между» на числовой оси, т. е. на множестве действительных чисел.
Если эмпирическая система значений какого-либо признака, который мы хотим измерить (т. е. построить шкалу на основе этой системы), не является неприводимой, то с ней обычно совершают стандартную процедуру приведения – переходят к рассмотрению новой системы, элементами которой являются классы конгруэнтности прежней системы, а отношения между ними мыслятся такими же, как отношения между элементами прежней системы. Такая новая система, очевидно, уже неприводима, и если построить из нее какой-нибудь гомоморфизм в числовую систему, то мы получим шкалу в смысле теории измерений.
В теории измерений существует классификация шкал, основанная на тех преобразованиях, относительно которых рассматриваемая шкала оказывается инвариантной. Пусть, например, имеется гомоморфизм µ некоей неприводимой системы (Z; S) в множество действительных чисел:

(здесь Z – произвольное множество, R – множество действительных чисел, а S и P – некие множества отношений соответственно на Z и на R). Тогда по определению µ – это шкала. Пусть есть также некая числовая функция f, определенная, по крайней мере, на области прибытия отображения µ:

Будем тогда говорить, что шкала µ инвариантна относительно преобразования f (а преобразование f допустимо для шкалы µ), если композиция отображений f и µ есть также гомоморфизм системы (Z; S) в множество действительных чисел:
 .
.Очевидно, что чем сложнее измеряемая эмпирическая система (чем больше в ней отношений и чем более сложными являются сами эти отношения), тем «сильнее» рассматриваемая шкала и тем ýже класс ее допустимых преобразований.
В рамках классификации, основанной на типах допустимых преобразований, различаются следующие типы наиболее употребительных шкал:
1. Шкалы наименований, инвариантные относительно любых взаимно однозначных функций на множестве действительных чисел. Пример: нумерация игроков футбольной команды, имеющая единственную цель – различать футболистов на поле.
2. Шкалы порядка, инвариантные относительно любых монотонных непрерывных функций. Сюда относятся все так называемые «балльные» шкалы: шкала для определения силы шторма на море, шкала Рихтера для определения силы землетрясений, шкала оценки знаний у школьников и т. п.
3. Шкалы интервалов, инвариантные относительно любых линейных преобразований типа x′ = ax + b. Пример: температурная шкала Цельсия, имеющая условный нуль отсчета (точку замерзания воды) и условную же единицу измерения (одну сотую расстояния от точки замерзания до точки кипения).
4. Шкалы отношений, инвариантные относительно линейных преобразований, где b = 0 (x′ = ax). В шкалах отношений измеряется большинство скалярных физических величин: длина, масса, энергия, температура по Кельвину и т. д.; все они имеют «естественное» начало отсчета (нулевое значение), но измеряются в условных единицах.
5. Шкалы разностей, инвариантные относительно линейных преобразований, где a = 1 (x′ = x + b). Сюда относятся все шкалы для измерения «фаз» различных периодических процессов (например, фаз Луны, или фаз переменного тока); для них существует естественная единица измерения (один полный цикл), но нет безусловного начала отсчета.
6. Абсолютные шкалы, инвариантные лишь относительно тождественного преобразования. В абсолютных шкалах измеряются все так называемые «безразмерные» величины: отношение длины объекта к его ширине, число элементов в конечном множестве и т. д.
Пожалуй, главная цель настоящей работы заключается в обосновании положения о том, что стратиграфические шкалы являются также шкалами в смысле теории измерений, а именно – шкалами порядка, и в ответе на вопрос, почему они являются шкалами порядка, а не какими-нибудь другими.
2. Время как фактор-процесс
Что такое время?
«Исповедь» блаженного Августина, написанная около 400 г. н. э., содержит довольно большой по объему фрагмент (главы 10 – 30 книги XI), который рассматривается историками философии как одно из глубочайших за всю историю человечества сочинений о времени [21]. В начале этого фрагмента есть такие слова: «…Что такое время? Пока никто меня о том не спрашивает, я понимаю, нисколько не затрудняясь; но коль скоро хочу дать ответ об этом, я становлюсь совершенно в тупик» [3, cтр. 313]. Так же, т. е. как основную первичную интуицию нашего сознания, лежащую в основе всякого познавательного процесса, трактовал время и И. Кант в «Критике чистого разума» (цит. по русскому изданию [13]). Таким образом, любая попытка дать определение понятию времени неизбежно сводится лишь к бесконечному повторению одной и той же тавтологии: «Время есть время».
Но даже согласившись с великими умами прошлого в том, что во всех наших теоретических конструкциях время должно выступать в качестве первичного и неопределяемого понятия, мы можем вспомнить об опыте математики, где определение неопределяемых понятий имплицитно содержится в аксиомах, формулируемых с помощью этих понятий. Наша интуиция имеет собственную структуру, которая описывается с помощью той или иной системы аксиом. Не претендуя на построение общей формальной теории времени (для знакомства с такими теориями можно обратиться к работам по временнóй логике; см., например, [12; 18]), я хотел бы все же неформальным образом очертить здесь структуру своей интуиции времени с помощью обращения к некоторым другим столь же интуитивно-ясным понятиям.
Первым из таких понятий в нашем рассмотрении будет понятие процесса. Процесс будет пониматься нами как некая система, состоящая из элементов, которые связаны друг с другом некоторыми («процессообразующими») отношениями. Элементы процесса естественно называть событиями. Процессом является и моя собственная жизнь или мое бытие. Таким образом, то, что обычно называется словом «я», тоже можно рассматривать как процесс.
Вторым понятием, которое мы введем в качестве интуитивно-ясного, будет понятие синхронности. Синхронность будет рассматриваться нами как отношение между событиями. Синхронизация (установление синхронности между событиями разных процессов) есть гомоморфизм процессов, т. е. такое соответствие между событиями, при котором сохраняются «процессообразующие» отношения. Всякое наблюдение процесса включает в себя его синхронизацию с процессом «я» (наблюдателем). При этом события постороннего для меня процесса становятся как бы и событиями моей собственной жизни. Такая синхронизация представляется самоочевидной и не нуждающейся в каких-либо специальных методах.
Отношение синхронности обладает всеми свойствами, характеризующими отношение эквивалентности:
1) рефлексивностью: всякое событие синхронно самому себе;
2) симметричностью: если событие G синхронно событию H, то событие H синхронно событию G;
3) транзитивностью: если событие G синхронно событию H, а событие H синхронно событию I, то событие G синхронно событию I.
Таким образом, синхронность есть отношение эквивалентности и множество событий может быть разбито по этому отношению на непересекающиеся классы (классы синхронности). Ввиду того, что «процессообразующие» отношения сохраняются при синхронизации, можно считать, что между классами синхронности так же существуют некоторые отношения и, таким образом, множество классов синхронности тоже может рассматриваться как некая система. Эта система построена нами с помощью процедуры, широко известной и используемой в математике под названием факторизации (например, таким образом в теории групп вводится понятие фактор-группы), и представляет собой, так сказать, «фактор-процесс».
Понятие фактор-процесса отождествляется мной с понятием времени. Время, таким образом, - это то, что есть общего у нескольких процессов, синхронизируемых друг с другом (определения такого рода часто встречаются в математике и физике; например: мощность множества – это то общее, что есть у множеств, эквивалентных друг другу; поле – это то общее, что есть у взаимодействующих тел; и т. п.). Выбирая для синхронизации разные множества процессов, мы будем получать и разные времена c разными свойствами и отношениями между моментами (классами синхронных событий). В пределе каждый отдельный процесс может рассматриваться как самостоятельное время, если он берётся изолировано от других процессов и не синхронизируется с ними.
Легко видеть, что процедура построения времени через синхронизацию процессов вполне аналогична процедуре приведения систем, рассмотренной в предыдущем разделе. В силу этого время, рассматриваемое как фактор-процесс, всегда представляет собой неприводимую систему, удобную для измерения. Измерение времени осуществляется с помощью специальных эталонных процессов, называемых часами. Как правило, часы снабжены каким-либо циферблатом, т. е. системой цифр, делающей измерение данного процесса (сопоставление составляющих его событий с множеством действительных чисел) процедурой самоочевидной. Можно сказать, что часы измеряют сами себя. Кроме того, часы выступают в качестве измерительного эталона времени: каждому моменту времени (классу синхронных событий) ставится в соответствие то число, которое соответствовало событию часов, входящему в данный класс.
Синхронизация какого-либо процесса с часами называется хронометражем или датировкой (слово «хронометраж» употребляется, как правило, по отношению ко всему процессу в целом, а слово «датировка» - по отношению к отдельным событиям). В обыденной жизни датировки осуществляются, как правило, через процесс «я». Например, если я утверждаю, что поезд прибыл на станцию в 19 часов 20 минут, то этим констатируется синхронизация трех процессов: движения поезда, хода часов (скажем, на здании вокзала) и моей собственной жизни, которая благодаря наблюдению включает в себя и события первых двух процессов.
Время, моменты которого включают в себя события моей жизни (и которое тем самым измеряется описанным выше путем, т. е. синхронизацией различных процессов с часами через процесс «я»), называется физическим. В различных исторических науках разработаны специальные способы измерения времени без участия наблюдателя. Благодаря этому можно говорить о различных «нефизических» временах, в том числе и о специфическом геологическом времени.
3. Кризис стратиграфии
Современное состояние стратиграфии, которая понимается мной как наука о геологическом времени {2}, выглядит парадоксальным. С одной стороны, геологи, кажется, могли бы гордиться самим существованием этой отрасли их знания. Николай Стенон, которого можно считать основоположником стратиграфии, был современником Р. Декарта и И. Ньютона {3}. Таким образом, важность временнóго аспекта геологии была осознана так давно и так обстоятельно, что послужила основанием для создания отдельной научной дисциплины. Нельзя сказать, что существует отдельная наука о физическом, или о биологическом, или даже об историческом времени. А вот отдельная наука о геологическом времени существует, и называется она стратиграфией.
Но с другой стороны, стратиграфия до настоящего времени остается крайне плохо разработанной в теоретическом отношении. Теорию стратиграфии нигде не преподают. В ней фактически отсутствуют какие-либо устоявшиеся и общепризнанные положения, которые можно было бы передавать от одного поколения исследователей к другому и включать в учебники. Соответственно, нет и учебников. Нет даже хороших обобщающих монографий. Лучше других – книга С. В. Мейена «Введение в теорию стратиграфии», депонированная в ВИНИТИ в 1974 г. и изданная в 1989 г. уже после смерти автора [24], хотя и она не свободна от некоторых весьма существенных недостатков. Выражаясь языком Т. Куна [19], можно сказать, что у стратиграфии нет своей парадигмы. Состояние ее теории можно уподобить состоянию геометрии в древнем Египте: эта теория сводится к набору рецептов с неопределенными границами применимости и неизвестными взаимосвязями. Вот уже три с половиной века стратиграфия ждёт своего Евклида.
По-видимому, до конца XIX в. теорию стратиграфии вообще никто специально не разрабатывал. Мейен начинает свою книгу цитатой из статьи С. Н. Никитина и Ф. И. Чернышёа, в которой они сетуют на то, что каждому стратиграфу «…поручено сооружение одного этажа, каждый заботился только о скреплении этого этажа по силе разумения своего с этажом предыдущим, но никто не слазил посмотреть, на чем держится все здание» [27, стр. 138]. Параллельно, так же со второй половины XIX в. [37] и вплоть до конца XX-го [33] бытует мнение о принципиальной «нелогичности» стратиграфии, а следовательно, и невозможности построить для нее удовлетворительную теорию. Мейен (так же, впрочем, как и Ю. С. Салин) видел причину отсутствия стратиграфической парадигмы в расплывчатости многих используемых понятий, в том числе и тех, которые играют роль фундаментальных. Однако, публикация его собственной книги, призванной (по крайней мере, с точки зрения автора) прояснить и чётко очертить смысл этих понятий, мало что изменила в «дискуссионном поле» теоретической стратиграфии (см., например, [30]). Не разделяя пессимизма Спенсера–Салина, я думаю, что подлинная причина «теоретико-стратиграфического хаоса» заключается не только и не столько в терминологической нечёткости, сколько в том интуитивном общем представлении о времени, которое господствует в умах стратиграфов на протяжении всей истории стратиграфии.
В геологии эта первичная интуиция (в дальнейшем мы будем называть её наивным представлением о времени) приходит в противоречие с некоторыми эмпирическими фактами. Разрешение возникающих противоречий возможно путём различных модификаций наивного представления о времени, но поскольку это представление (в силу своей интуитивности) остаётся не эксплицированным, то всякая такая модификация вызывает отторжение со стороны всех остальных (за исключением её автора) участников дискуссии. Поэтому кажется разумным начать наше рассмотрение проблемы геологического времени с происхождения и аксиоматического описания наивного представления о времени вообще.
II. Роль измерений в истории естествознания. «Тройной изоморфизм» Ньютона
1. Аналитическая геометрия и «геометрический анализ»
Идея о том, что в основе мироздания лежат числа, обычно приписывается Пифагору [41]. Наука Нового времени получила «прививку» пифагорейства уже в самом начале своего существования – от Галилея, которого считают одним из отцов этой науки. «Тот, кто хочет решать вопросы естественных наук без помощи математики, ставит неразрешимую задачу. Следует измерять то, что измеримо, и делать измеримым то, что таковым не является», – писал Галилей [цит. по 17, стр. 14], и данный методологический принцип приобрёл в дальнейшем широкую популярность, найдя отражение даже в словах известной детской песенки:
Раз, два, три, четыре, пять,
Шесть, семь, восемь, девять, десять…
Можно всё пересчитать,
Всё измерить и всё взвесить:
Сколько лодочек на море,
Сколько зёрен в помидоре,
Сколько в комнате дверей,
В переулке фонарей.
Если перевести этот принцип на язык теории измерений, то можно сказать, что Галилей считал все существующие в мире отношения выразимыми через отношения между числами.
Декарт, младший современник Галилея, продемонстрировал полное и максимально последовательное приложение его принципа к другому (отличному от арифметики) разделу математики – он создал аналитическую геометрию. Существование аналитической геометрии порождает ряд важных методологических вопросов, поэтому на основаниях этой дисциплины стóит остановиться подробнее.
Аналитическая геометрия может рассматриваться как пример полной редукции одной математической дисциплины к другой: все неопределяемые понятия геометрии определены в ней через понятия арифметики таким образом, что все аксиомы геометрии оказываются истинными (справедливыми, доказуемыми) теоремами арифметики. Геометрия тем самым превращается в частный раздел арифметики – учение об упорядоченных тройках действительных чисел. В связи с этим возникает вопрос: действительно ли арифметика есть теория более общая, чем геометрия, и если да, то почему геометрия продолжает существовать в качестве вполне самостоятельного раздела математики и спустя три с половиной века после публикации трудов Декарта? Или, может быть, обе эти дисциплины (геометрия и арифметика) имеют одинаковый уровень общности и обе, как любят говорить математики, могут служить моделями друг для друга? Но модель никогда не тождественна тому, что она моделирует, а всегда лишь сходна с ним в отношении некоторых свойств, оставаясь отличной от моделируемого объекта по каким-то другим свойствам. Если геометрия и арифметика сосуществуют параллельно на протяжении многих веков, то, скорее всего, они все же чем-то отличаются друг от друга. Но чем? Как эти отличия выражены в аксиоматике той и другой дисциплины?
Чтобы приблизиться к ответам на эти вопросы, попробуем сначала совершить редукцию «в обратную сторону» (по сравнению с редукцией Декарта) и построить по образу и подобию аналитической геометрии «геометрический анализ», т. е. определить неопределяемые понятия арифметики через понятия геометрии таким образом, чтобы все арифметические аксиомы стали бы доказуемыми геометрическими теоремами. В математической литературе мне не встречалось подобного построения и ниже я приведу его несмотря на то, что с математической точки зрения оно вполне тривиально. Однако, сначала необходимо выяснить вопрос о том, чтó следует считать аксиомами арифметики.
В отличие от геометрии, первая аксиоматика которой была построена еще Евклидом (IV в. до н. э.), арифметика долго развивалась на чисто интуитивной основе, и формулировку её аксиом обычно связывают с трудами Дж. Пеано, появившимися лишь в конце XIX в. Работы Пеано, к сожалению, отсутствуют в русском переводе и остались недоступными для меня в оригинале. Поэтому его аксиоматику я привожу по книгам С. К. Клини [14; 15]. Пеано вводит три неопределяемых понятия – число (натуральное), единица и следующее число, а также следующие пять аксиом:
A1. Единица есть число.
A2. Для всякого числа существует следующее число и притом только одно (т. е. если число a следует за числом b, то не существует никакого числа c, отличного от a, которое следовало бы за b).
A3. Если число a следует за числом b, то не существует никакого числа c, отличного от b, такого что a следовало бы за c (т. е. для всякого числа существует не более одного, предшествующего ему).
A4. Единица не следует ни за каким числом.
A5 (принцип индукции). Если некоторое утверждение справедливо для единицы и из того, что оно справедливо для некоторого числа, следует, что оно справедливо и для следующего за ним числа, то это утверждение справедливо для любого числа.
Принятие аксиомы A5 позволяет формулировать в рамках системы Пеано так называемые «индуктивные» определения: мы определяем некоторое понятие для единицы, предполагаем, что это понятие определено для какого-то натурального числа, и затем, исходя из сделанного предположения, определяем его для следующего натурального числа; тем самым в силу принципа индукции данное понятие оказывается определенным для любого натурального числа.
Например, понятие суммы двух натуральных чисел (или операции сложения) можно определить таким образом. Суммой чисел a и b называется число c, обладающее следующими свойствами:
а) если b есть единица, то c есть число, следующее за a;
б) если b есть число, следующее за числом n, то c есть число, следующее за суммой чисел a и n.
Аналогично определяются и такие арифметические операции как умножение и возведение в степень. Свойства арифметических операций (ассоциативность и коммутативность сложения и умножения, а также дистрибутивность умножения относительно сложения) могут быть доказаны как теоремы на основании аксиом A1 – A5 и соответствующих определений.
Попробуем теперь изложить эти аксиомы (A1 – A5) на языке геометрии {4}. В качестве понятийно-аксиоматического языка геометрии я буду использовать аксиоматику Д. Гильберта [5] – наиболее полную из известных мне. Доказательства некоторых теорем (очевидных или не играющих важной роли в осуществляемом описании) опущены для краткости.
Согласно аксиоматике Гильберта существуют различные точки A, B, C и D, такие, что не существует никакой плоскости, которая содержала бы их все.
Определение 1. Нулём (0) называется точка A.
Определение 2. Единицей (1) называется точка B.
Согласно аксиоматике Гильберта существует прямая l, содержащая точки A и B, причём никакая другая прямая (отличная от l) не содержит обе эти точки.
Определение 3. Прямая l, содержащая точки A и B, называется числовой прямой.
Определение 4. Числами (действительными) называются точки числовой прямой.
Очевидно, что 0 и 1 суть числа.
Определение 5. Число M называется отрицательным, если 0 лежит между M и 1.
Определение 6. Все неотрицательные числа кроме 0 называются положительными.
Очевидно, что положительные числа существуют (например, 1). Таким образом, точки числовой прямой делятся на непересекающиеся классы: положительные числа, отрицательные числа и 0.
Определение 7. Пусть M и N – числа. Переместим отрезок AM вдоль числовой прямой таким образом, чтобы точка A совпала с точкой N. Тогда точка M займет на числовой прямой новое место, соответствующее некоторому числу M’. Назовём число M’ суммой чисел N и M. Обозначать это будем так: M’ = N + M.
Теорема 1. Операция сложения (получения суммы) чисел коммутативна, т. е. для любых чисел M и N
N + M = M + N.
Теорема 2. Операция сложения чисел ассоциативна, т. е. для любых чисел L, M и N
L + (M + N) = (L + M) + N.
Определение 8. Будем называть число натуральным, если оно может быть получено в результате сложения единицы с самой собой. Саму единицу также будем считать натуральным числом.
Определение 9. На множестве чисел определим бинарное отношение < (меньше):
а) никакое число не меньше самого себя;
б) любое отрицательное число меньше любого неотрицательного;
в) ноль меньше любого положительного числа;
г) если M и N – различные отрицательные числа, то M < N тогда и только тогда, когда N лежит между 0 и M;
д) если M и N – различные положительные числа, то M < N тогда и только тогда, когда M лежит между 0 и N.
Теорема 3. Отношение < есть отношение строгого порядка, т. е., учитывая пункт (а) определения 9, если L < M, а M < N, то L < N.
Замечание 1. Как всякое отношение строгого порядка отношение < асимметрично, т. е. если M < N, то неверно, что N < M.
Замечание 2. Из определения 9 и теоремы 3 очевидно следует, что множество чисел линейно упорядоченно по отношению <, т. е. для любых различных чисел M и N справедливо либо M < N, либо N < M.
Теорема 4. Если 0 < M (т. е. М – положительное число), то для любого числа N
N < N + M.
Замечание 3. В силу первой аксиомы конгруэнтности

Гильберта, а также нашей теоремы 4 и с учетом замечания 2 всегда можно установить, является ли данное число натуральным, или нет, даже не обращаясь к аксиоме измеримости

Учитывая же эту аксиому, можно легко доказать следующий критерий.
Теорема 5. Если 0 < M, то M не является натуральным числом тогда и только тогда, когда существует такое натуральное число N, что
N < M < N + 1.
Определение 10. Если N – натуральное число, то число N + 1 (очевидно, тоже натуральное) будем называть числом, следующим за N. Само число N будем при этом называть предшествующим числу N + 1.
Замечание 4. Из определения 10 и теоремы 2, очевидно, следует эквивалентность определения 7 и данного выше «индуктивного» определения суммы двух натуральных чисел.
Теорема 6. Для всякого натурального числа существует единственное следующее натуральное число.
Доказательство. Существование следующего натурального числа непосредственно вытекает из первой аксиомы конгруэнтности

Гильберта [5]. Доказательство единственности этого числа аналогично доказательству однозначности откладывания отрезков в той же работе.
Теорема 7. Единица не следует ни за каким натуральным числом.
Теорема 8. Для всякого натурального числа кроме единицы существует единственное предшествующее натуральное число.
Доказательство аналогично доказательству теоремы 6.
Лемма 1. В любом конечном множестве чисел существует наименьшее число (т. е. такое, которое меньше всех других чисел из этого множества).
Доказательство проведем, используя аппарат теории множеств, поскольку эта теория не опирается ни на понятие числа, ни на понятие точки и может рассматриваться как предшествующая по отношению и к арифметике, и к геометрии. Пусть Z есть произвольное конечное множество чисел. Рассмотрим произвольный элемент этого множества – E. Если в множестве Z нет элементов, которые были бы меньше E, то E – наименьший элемент. Пусть такие элементы есть. Обозначим их множество через

Очевидно, что в множестве Z существуют элементы, не принадлежащие

(например, E), т. е.

есть собственное подмножество множества Z:
 .
.Кроме того, в силу транзитивности отношения < (теорема 3) любой элемент множества

меньше любого элемента множества Z, не принадлежащего

Рассмотрим произвольный элемент множества

F. Если в множестве

нет элементов, которые были бы меньше F, то F – наименьший элемент. Пусть такие элементы есть. Обозначим их множество через

Очевидно, что любой элемент множества

меньше любого элемента множества Z, не принадлежащего

и что множество

есть собственное подмножество множества

 .
.Рассуждая дальше аналогичным образом, получим цепочку множеств, упорядоченную по отношению включения:

Каждому множеству в этой цепочке за исключением множества Z поставлен в соответствие некоторый элемент множества Z, причем никакой элемент не поставлен в соответствие разным множествам. Следовательно, поскольку множество Z конечно, то рассматриваемая цепочка множеств тоже конечна и в ней имеется последнее множество –

Рассмотрим произвольный элемент этого множества – W. Если бы в множестве

были элементы, меньшие, чем W, то оно не было бы последним в цепочке. Следовательно, W есть наименьший элемент в множестве

а значит – и во всем множестве Z.
Лемма 2. В любом непустом множестве натуральных чисел существует наименьший элемент.
Доказательство. Пусть Z есть некоторое непустое множество натуральных чисел. Возьмём произвольный элемент этого множества N. Если N = 1, то согласно теоремам 4 и 7 N есть наименьшее число в множестве Z. Если же N не есть единица, то согласно аксиоме измеримости

по Гильберту) существует конечное множество натуральных чисел, меньших, чем N. Обозначим это множество через Y. Если в множестве Z существуют такие элементы M, что N < M, то очевидно, что любой элемент из Y меньше любого числа M. Пусть X = Y ∩ Z. Если X = Ø, то очевидно, что N есть наименьший элемент в Z. Если множество X не пусто, то оно, несомненно, есть конечное множество (т. к. Y – тоже конечное множество). Тогда по лемме 1 в нем есть наименьший элемент. Этот элемент, очевидно, является наименьшим и для всего множества Z.
Теорема 9 (принцип индукции). Если некоторое утверждение справедливо для единицы и из того, что оно справедливо для натурального числа N, следует, что оно справедливо для числа N + 1, то это утверждение справедливо для любого натурального числа.
Доказательство (методом от противного). Пусть Q есть некоторое утверждение, удовлетворяющее условиям теоремы, т. е. оно справедливо для единицы и из того, что оно справедливо для произвольного натурального числа N, следует, что оно справедливо для N + 1. Допустим, что существует непустое множество натуральных чисел Z, для которых утверждение Q не выполняется. Тогда согласно лемме 2 в множестве Z существует наименьшее число M. Поскольку по условиям теоремы утверждение Q справедливо для единицы, то M не является единицей. Следовательно, по теореме 8 существует такое натуральное число N, что M = N + 1, а согласно теореме 4 N < M. Значит, поскольку M есть наименьше число в множестве Z, число N к множеству Z не принадлежит. Следовательно, для него выполняется утверждение Q. Но тогда по условиям теоремы это утверждение выполняется и для числа N + 1, т. е. для M, что противоречит утверждению о принадлежности M к множеству Z. Полученное противоречие доказывает теорему 9.
Таким образом, нам удалось редуцировать арифметику Пеано (т. е. арифметику натуральных чисел) к геометрии. Неопределяемые понятия Пеано заданы нашими определениями 2, 8 и 10, а его аксиомы соответствуют в нашем изложении определению 8, а также теоремам 6 – 9. Дальнейшие расширения предмета арифметики (алгебры чисел) до множества целых, рациональных и действительных чисел так же находят свои аналогии в геометрии числовой прямой. Хотя на интуитивном уровне может казаться, что арифметика и геометрия описывают разные «миры», однако, между этими «мирами» существует глубокий изоморфизм. Для его описания необходимо и достаточно рассмотрения двух отношений, которые Гильберт [5] ввел в качестве неопределяемых в аксиоматику геометрии (отношения «между» и отношения конгруэнтности интервалов или равенства разностей, если речь идет о числах), а также свойства непрерывности {5}. Этот изоморфизм выражается в существовании аналитической геометрии и «геометрического анализа», а также «смешанных» разделов внутри каждой из рассматриваемых дисциплин (внутри геометрии таким разделом, использующим арифметические понятия и методы, является учение об измерении расстояний, площадей и объемов, а внутри арифметики – учение о тригонометрических функциях, опирающееся на геометрическое понятие угла). Некоторые из практических задач, с которыми нам приходится сталкиваться, легче формулируются и решаются на языке геометрии, а некоторые – на языке арифметики. Это обстоятельство и обуславливает параллельное сосуществование обеих дисциплин на протяжении всей истории математики.
2. «Наивное» время и его измерение
Ньютон, родившийся в год смерти Галилея и за восемь лет до смерти Декарта, явился достойным продолжателем их дела. Широко известно его изречение: «Я видел далеко, потому что стоял на плечах гигантов». По-видимому, именно интеллектуальные результаты Галилея и Декарта послужили Ньютону источником вдохновения для окончательного оформления той (субстанциональной) концепции времени, основы которой были заложены еще древнегреческими философами милетской школы [36] и которая ныне чаще называется ньютоновской. Ньютон понимал время как некую абсолютную равномерную (т. е. однородную, симметричную в смысле равноправия всех своих элементов) длительность, в которую погружены все процессы, протекающие в мире, и называл такое время «математическим» [42]. Очевидно, собственные свойства времени мыслились им как изоморфные свойствам направленной прямой (оси) и множества действительных чисел. Тем самым изоморфизм, намеченный Галилеем и Декартом, стал тройным: к множествам чисел и точек добавилось множество моментов времени.
Теперь, после того, как мы построили «геометрический анализ», нам будет очень просто записать систему аксиом, которая «по образу и подобию» прямой линии и множества действительных чисел описывала бы наивное представление о времени. В качестве неопределяемых будем рассматривать понятия «момент времени», «раньше» (бинарное отношение на множестве моментов времени) и «конгруэнтность» (бинарное отношение на множестве интервалов времени; само понятие интервала времени неопределяемым не является, и его определение будет дано ниже).
Аксиома T1. Существует, по крайней мере, два {6} момента времени.
Аксиома T2. Если K и L – различные моменты времени, то можно говорить, что момент K наступает раньше момента L, в том и только том случае, когда неверно, что момент L наступает раньше момента K.
Аксиома T3. Если момент K наступает раньше момента L, а момент L – раньше момента M, то момент K наступает раньше, чем момент M.
Из аксиом T2 и T3 вытекает, что отношение «раньше» есть отношение строгого порядка и, следовательно, обладает свойством антирефлексивности: никакой момент времени не наступает раньше самого себя.
Если момент K наступает раньше момента L, то интервалом времени (K; L) будем называть множество моментов M, таких что момент K наступает раньше момента M, а момент M – раньше момента L.
Аксиома T4. Если (K; L) – интервал времени, а M – произвольный момент, то существуют такие моменты N и N’, что момент M наступает раньше момента N, момент N’ наступает раньше момента M и при этом оба интервала (M; N) и (N’; M) конгруэнтны (т. е. равны) интервалу (K; L).
Аксиома T5. Если интервалы (K’; L’) и (K’’; L’’) конгруэнтны одному и тому же интервалу (K; L), то интервал (K’; L’) конгруэнтен также интервалу (K’’; L’’).
Аксиомой T5 утверждается транзитивность отношения конгруэнтности на множестве интервалов времени. На основании аксиом T1 – T5 может быть доказана также рефлексивность (всякий интервал конгруэнтен самому себе) и симметричность [если интервал (K; L) конгруэнтен интервалу (K’; L’), то интервал (K’; L’) конгруэнтен интервалу (K; L)] этого отношения. Таким образом, отношение конгруэнтности интервалов времени есть отношение эквивалентности.
Аксиома T6 (аксиома измеримости). Пусть (K; L) и (M; N) – два каких-нибудь интервала времени. Тогда существует конечное множество моментов времени

таких, что момент K наступает раньше момента

момент

раньше момента

момент

раньше момента

момент

раньше момента

момент L принадлежит интервалу

и при этом все интервалы

конгруэнтны интервалу (M; N).
Аксиома T7 (аксиома полноты). Моменты времени образуют систему, которая при сохранении аксиом T1 – T6 не допускает никакого расширения, т. е. к этой системе моментов невозможно прибавить еще моменты так, чтобы в системе, образованной первоначальными и добавленными моментами, выполнялись бы все указанные аксиомы.
Время, описанное данной системой аксиом, обладает, очевидно, следующими фундаментальными свойствами, вытекающими из его изоморфизма множеству действительных чисел и прямой линии:
1. Континуальность. Множество моментов времени имеет мощность континуума.
2. Упорядоченность. Множество моментов времени линейно упорядочено отношением строгого порядка «раньше». Это отношение естественным образом задает на множестве моментов времени интервальную топологию, так что данное множество может рассматриваться как топологическое пространство.
3. «Уплотнённость». Между любыми двумя моментами времени (отношение «между» естественным и очевидным образом определяется через отношение «раньше») всегда существует третий момент {7}.
4. Связность. Время представляет собой связное топологическое пространство.
5. Однородность. Время обладает «трансляционной» симметрией, т. е. все его свойства инвариантны относительно любого переноса из одного момента в другой. В этом смысле все моменты времени «равноправны», т. е. в каждый момент время обладает такими же свойствами, как и в любой другой. В физике однородность времени рассматривается как чрезвычайно важное свойство: согласно теореме Нетер из неё выводится закон сохранения энергии [2]. Однако, поскольку теорема, обратная к теореме Нетер, неверна, нарушение этого свойства может и не приводить к нарушению закона сохранения энергии и в нашем мире, где энергия, безусловно, сохраняется, физическое время, вообще говоря, не обязано быть однородным.
Понятно, что измерение (т. е. соотнесение с множеством действительных чисел) «наивного» времени должно быть очень простым ввиду глубокого сходства между обоими множествами, заложенного в самое основание концепции «наивного» времени ещё Ньютоном при её создании. Рассматривая измерение времени в рамках теории измерений, в качестве эмпирической системы следует, очевидно, рассматривать множество моментов времени с заданными на нём отношениями. Одним из таких «системообразующих» отношений будет отношение «раньше», а вторым – отношение между моментами, задаваемое тем отношением, которое мы рассматривали на множестве временных интервалов и называли конгруэнтностью. Для того, чтобы отличить это второе отношение между моментами от отношения между интервалами, а также от отношения конгруэнтности между элементами эмпирической системы, часто рассматриваемого в теории измерений, введём для его обозначения специальный термин – эквилататность (от лат. aequilatatio – равное расстояние). Эквилататность, таким образом, есть четырёхместное отношение на множестве моментов времени, однозначно определяемое следующим условием: если два интервала времени конгруэнтны друг другу (и только в этом случае), то концы этих интервалов находятся друг с другом в отношении эквилататности.
Определенная таким образом эмпирическая система «наивного» времени является неприводимой в силу линейной упорядоченности множества моментов по отношению «раньше». Шкала такого времени будет представлять собой изоморфизм, где отношению «раньше» между моментами соответствует отношение «меньше» (или «больше») между числами, а отношению эквилататности – отношение, определяемое равенством разностей двух пар чисел.
Для практического построения шкалы (т. е. измерения) времени используются различные приборы, называемые часами. Действие подавляющего большинства часов основано на некоторых периодических процессах, обеспечивающих конгруэнтность временных интервалов (и тем самым эквилататность моментов). Связано это, по-видимому, с особенностями нашей временнóй интуиции, основу которой составляет память: только благодаря памяти мы вообще знаем о существовании времени. В нашей памяти хранятся не только следы тех впечатлений, которые мы получили от внешнего мира, но и представления о порядке, в котором мы эти впечатления получали. Вероятно, поэтому мы вслед за Ньютоном склонны уподоблять время не просто прямой линии, а именно направленной прямой (оси). По той же причине в вышеприведенной аксиоматике «наивного» времени в качестве неопределяемого понятия, задающего топологию, вводится отношение «раньше», а не отношение «между», как это было сделано для прямой линии в аксиоматике Гильберта [5].
Упорядоченную последовательность образов, хранящуюся в памяти, можно назвать субъективным временем. При этом мы, в основном, склонны доверять своей памяти в отношении того, «чтó было раньше, а чтó – потóм», но такие понятия, как «давно» или «скоро», обычно считаются «субъективными» и плохо определёнными. Другими словами можно сказать, что у нас хорошо развита интуиция отношения «раньше» и плохо – интуиция отношения эквилататности. Поэтому при измерении времени мы обычно стараемся как-то «объективировать» конгруэнтность временных интервалов, тогда как отношение «раньше» в такой объективации не нуждается, будучи очевидным на интуитивном уровне. Функцию объективации отношения эквилататности как раз и выполняют периодические процессы, лежащие в основе измерения времени: мы можем считать конгруэнтными интервалы времени, разделяющие одинаковые стадии того процесса, на котором основано действие применяемых нами часов. При этом в качестве эмпирического факта можно отметить существование большого числа часов, которые идут равномерно друг относительно друга [42]: отношение эквилататности во временах, измеряемых разными часами, сохраняется (хотя бы приблизительно) при синхронизации этих часов друг с другом.
1-ый закон Ньютона констатирует равномерность друг относительно друга перемещения в пространстве любых двух тел, на которые не действуют никакие внешние силы. Этот закон, по-видимому, можно также распространить на процессы вращения тел (например, Земли) вокруг собственной оси. Вероятно, та же «универсальная равномерность» является причиной и отмеченного существования большого числа часов, идущих равномерно друг относительно друга.
Равномерность – это как раз та общность процессов, выражением которой является понятие «наивного» времени, получившего от Ньютона «титул» математического или абсолютного.
Очевидно, что описанные выше шкалы времени инвариантны относительно любых линейных преобразований, однако, существуют монотонные непрерывные преобразования (нелинейные), недопустимые для них. В самом деле, пусть, например, K, L, M и N – моменты времени, находящиеся в отношении эквилататности, а μ – какая-нибудь шкала «наивного» времени. Тогда:
μ(L) – μ(K) = μ(N) – μ(M).
Рассмотрим нелинейную числовую функцию
 . Хотя эта функция монотонна и непрерывна, но соотношение
. Хотя эта функция монотонна и непрерывна, но соотношениеf[μ(L)] – f[μ(K)] = f[μ(N)] – f[μ(M)]
может, вообще говоря, и не выполняться [например, если μ(K) = 1, μ(L) = 2, μ(M) = 3, а μ(N) = 4: 2 - 1 = 4 - 3, но 8 – 1 ≠ 64 – 27]. Следовательно, композиция отображений не является шкалой «наивного» времени, а шкала μ не инвариантна относительно преобразования f.
Таким образом, можно констатировать, что «наивное» время измеряется в шкалах интервалов.
Концепция «наивного» времени безраздельно господствовала в физике (и во всем остальном естествознании) на протяжении более трёхсот лет. Именно это обстоятельство позволяло записывать динамические (т. е. такие, где в качестве измеряемой величины фигурирует время) законы физики в виде дифференциальных уравнений {8}. И лишь в физике XX века основные свойства «наивного» времени начали ставиться под сомнение. Так линейная упорядоченность времени опровергается парадоксом близнецов, сформулированным в рамках теории относительности; космогоническая теория Большого взрыва говорит о начале времени и тем самым – о его неоднородности (наличии «сингулярностей»); гипотеза «дискретного» времени, порожденная квантовой механикой, отрицает сразу три свойства, рассматривавшиеся нами как фундаментальные для «наивного» времени: континуальность, уплотнённость и связность. Однако, насколько мне известно, измеряется физическое время до сих пор почти исключительно в шкалах интервалов. Впрочем, анализ современных представлений о физическом времени выходит за рамки, определяемые целями настоящей работы. Поэтому мы перейдём теперь к рассмотрению собственно геологического времени.
До сих пор все попытки построить корректную стратиграфическую теорию опирались исключительно на «наивные» представления о времени. Поэтому для того, чтобы сделать изложение более понятным в рамках сложившейся традиции, я тоже начну с описания некоторой «наивной» концепции, опирающейся на теорию Мейена [24] и кратко изложенной мною ранее [7]. Данный подход позволит наиболее рельефно выявить те противоречия, с которыми неизбежно сталкивается такая теория, и те её модификации, которые оказываются необходимыми для преодоления этих противоречий.
Примечания
{1} Это отношение, вообще говоря, может и не входить в множество S, т. е. не быть «системообразующим».
{2} Очень важная оговорка. Как в организационном, так и в методико-результативном аспектах стратиграфия подразделяется на две дисциплины, в значительной степени независимые друг от друга, – относительную и абсолютную геохронологию. В рамках абсолютной геохронологии для измерения времени используются следы сложных и «тонких» физических процессов: радиоактивного распада некоторых изотопов, термолюминесценции некоторых неорганических соединений и др. Соответственно, время в абсолютной геохронологии измеряется в шкалах отношений, а датировки выражаются в привычных нам единицах измерения, т. е. в годах (хотя «привычность» эта в значительной степени иллюзорна: «обыкновенные» годы и годы, используемые в абсолютной геохронологии, в действительности суть омонимы, поскольку в абсолютной геохронологии для измерения времени используются совсем другие процессы, чем вращение Земли вокруг Солнца – процесс, служащий для определения «обыкновенного» года). В рамках же относительной геохронологии вся история Земли (или какого-то отдельного участка земной поверхности) разделена на определенные интервалы, называемые стратонами, каждому из которых присвоено собственное имя, а датировка какого-либо геологического объекта или события заключается в том, что этот объект или событие относится к тому или иному стратону. Всё дальнейшее содержание настоящей статьи касается лишь относительной геохронологии и не имеет никакого отношения к абсолютной.
{3} Интересно (особенно в свете полемики с креационистами, на религиозных основаниях отвергающими всю стратиграфию), что Стенон был католическим епископом, а в 1988 г. он был беотифицирован папой Иоанном-Павлом II.
{4} Я принципиально не касаюсь здесь вопроса о полноте данной аксиоматики. В 1931 г. К. Гёдель доказал известную теорему, согласно которой никакая система аксиом арифметики не может быть полной, что породило среди многих ученых скепсис по отношению к аксиоматическому методу вообще. Ю. И. Манин, обсуждая вопрос, далеко ли от выводимости до истинности, приходит к заключению: «…Очень далеко» [22, cтр. 86], т. е. множество утверждений, выводимых из любой системы аксиом арифметики, оказывается, по его мнению, неизмеримо более «бедным», чем множество всех арифметических утверждений. Однако, если бы это действительно было так, то мы в своих практических обращениях к арифметике, вероятно, сталкивались бы с «гёделевскими» (т. е. недоказуемыми и неопровержимыми) утверждениями на каждом шагу, чего на самом деле не происходит. Насколько мне известно, единственное реальное «гёделевское» арифметическое утверждение было обнародовано (да и то не найдено, а специально построено) лишь полвека спустя после доказательства теоремы Гёделя. Так что существующие системы аксиом арифметики оказываются «достаточно» полными для всех практических приложений, в том числе и для целей настоящей работы.
{5} Этим свойством не обладают множества натуральных, целых и рациональных чисел, но обладает множество действительных чисел. В арифметику оно вводится с помощью специальной аксиомы, называемой принципом Дедекинда. В геометрии же непрерывность прямой является следствием аксиомы полноты

по Гильберту).
{6} Поскольку мы не собираемся редуцировать арифметику или геометрию к «теории наивного времени», а всего лишь хотим показать глубокое подобие, существующее между этими теориями, то здесь (в отличие от «геометрического анализа») мы можем считать уже заданными все понятия и аксиомы как геометрии, так и арифметики и использовать их в своём построении.
{7} Для обозначения данного свойства времени кажется естественным употреблять слово «плотность», и именно так поступал, например, А. Грюнбаум [8]. Однако в топологии этим словом обозначается совсем другое понятие. С другой стороны, в математической литературе мне не удалось найти термина, обозначающего это свойство линейно упорядоченных множеств, которое представляется важным во многих аспектах (им, например, обладает множество рациональных чисел, но не обладает равномощное ему множество натуральных чисел). Поэтому здесь и далее данное свойство придётся обозначать с помощью искусственного введения достаточно неуклюжего термина «уплотнённость».
{8} В свете описанной концепции «наивного» времени, для которого существенно не только отношение «раньше», но также и отношение эквилататности, невозможно согласиться с мнением Салина [34, cтр. 13] относительно бесспорности утверждения А. Бергсона о том, что время в физике нужно лишь «для упорядочения множества событий».
Окончание следует.
пятница, 08 мая 2020
3.5. Теория «Разумного Замысла»
Выражение «разумный замысел» используется обычно в русскоязычной литературе в качестве перевода английского “intelligent design” (или сокращённо ID) [43]. Перевод этот не вполне точен, т. к. английское слово “design” не имеет адекватного эквивалента в русском языке. Обычно им обозначается не просто замысел, а замысел, который уже получил материальное воплощение и который в этом воплощении с очевидностью усматривается. В силу этого я в дальнейшем буду обозначать данную теорию так, как она обозначается в англоязычной литературе – ID.
Конкретные взгляды адептов ID обнаруживают значительное разнообразие, и в силу этого данная теория не имеет чётко очерченных границ и, строго говоря, должна рассматриваться даже не как теория, а как довольно расплывчатое движение, одним своим «крылом» примыкающее к креационизму, а другим – к христианскому эволюционизму. Сторонники ID настаивают на том, что в живых организмах усматривается так называемая «нередуцируемая» или «специфическая» сложность, которая может воспроизводиться в череде поколений, но не может возникать самопроизвольно (путём «самоорганизации») из более простых структур. Поэтому адепты ID, как правило, признают всю эволюцию Вселенной в её небиологической части (в том числе и большую длительность этого процесса), но категорически отвергают биологическую эволюцию в её дарвиновской или неодарвинистической интерпретации. Наличие «нередуцируемой» или «специфической» сложности, по их мнению, является очевидным и неоспоримым свидетельством того, что отдельные таксоны живых существ создавались Богом, а эволюционные теории дарвинистического толка объявляются безусловно «материалистическими» и несовместимыми с содержанием Шестоднева.
«Разумный замысел», «нередуцируемая» или «специфическая» сложность (реальность информационного типа) сторонников ID, очевидно, имеет много общего с «законами», управляющими эволюцией согласно теории номогенеза. В силу этого можно было бы отождествить ID со взглядами христианских эволюционистов, исповедующих номогенез, и считать, что разногласия с «теистической эволюцией», которые декларируются сторонниками ID [115], суть чисто научные разногласия, касающиеся механизмов и движущих сил эволюционного процесса и бытующие в биологической литературе уже около 100 лет, а приписывание им принципиального религиозного смысла со стороны адептов ID есть следствие плохого знакомства этих адептов с теорией номогенеза {1}.
Но вместе с тем многие сторонники ID отрицательно относятся к широко принимаемой современными биологами теории «универсального общего предка», согласно которой всё многообразие органического мира возникло из одного предкового вида. И хотя во введении к книге «Теистическая эволюция: научная, философская и богословская критика» говорится, что «теория разумного замысла не отвергает с необходимостью эволюцию», понимаемую как развитие всего живого от универсального общего предка [115, стр. 46], но многие главы этой книги посвящены именно критике теории универсального общего предка, в том числе и критике представлений о существовании общего предка у человека и человекообразных обезьян. За всей этой критикой легко просматривается отвержение сторонниками ID creatio ex aliquo для подавляющего большинства биологических таксонов, т. е. 3-го принципа христианского эволюционизма, сформулированного в разделе 3.4.
В целом ID выглядит гораздо «научнее», чем креационизм (даже тот, который сам называет себя «научным»): адепты ID оперируют достаточно большим массивом биологических данных и делают это более грамотно, чем креационисты. Тем не менее, бóльшая часть мирового научного сообщества рассматривает ID как одно из направлений креационизма и считает его псевдонаучной концепцией.
ID возник в протестантской среде США в 80-ых годах прошлого века и продолжает развиваться параллельно с креационизмом в противостоянии «нормальной» биологической науке [109, 110, 115, 117; см. также библиографию в 43]. В русскоязычной литературе заметно пока лишь очень немного явных приверженцев этого движения (чуть ли не единственным примером может служить книга [89]), хотя, возможно, только «пока»: в Интернете мне нередко доводилось встречаться с мнениями относительно биологической эволюции, изложенными на русском языке и вполне выдержанными в духе ID. Идейно к ID близки произведения В. И. Разумова, Г. Н. Сидорова и О. Б. Шустовой [88, 105, 106], хотя осведомлённость этих авторов в ID-литературе (судя по ссылкам) довольно низкая, термин «разумный замысел» они не употребляют и позиционируют самих себя как креационистов.
Конечно, отрицание универсального общего предка и вообще происхождения одних таксонов от других (по крайней мере, таксонов высоких рангов) роднит ID с креационизмом. Подобно креационистам, адепты ID не дают никакого естественного объяснения возникновению высших таксонов{2}, что делает их концепцию столь же внутренне противоречивой, как креационизм, и беспомощной перед лицом тех же самых вопросов, которые оказываются роковыми и для этого учения, рассмотренного выше (см. раздел 3.2, а также [25, 43]).
4. Заключение
Таковы на сегодняшний день основные концепции интерпретации Шестоднева. Какое будущее ожидает каждую из них? Ответить на этот вопрос трудно, ибо будущее зависит, в том числе, и от наших собственных усилий, прилагаемых в настоящем. Конечно, по обещанию Господа нашего Иисуса Христа (Матф 16:18) врата ада не одолеют Церкви, и Она до скончания века пребудет «столпом и утверждением истины» (1 Тим 3:15). Это обстоятельство порождает веру в то, что истина, добытая наукой, в том числе и истина об эволюционном развитии природного мира никогда, по крайней мере, не будет отлучена от церковного сознания, не будет объявлена ересью, несовместимой с пребыванием её адептов в лоне Церкви (как того требуют креационисты). Но будущее широкое распространение Церкви (и, следовательно, истины) в окружающем Её мире уже не столь очевидно. Нельзя забывать, что даже Сам Спаситель вопрос о сохранении в мире истинной веры до конца времён оставил открытым: «Но Сын Человеческий, придя, найдёт ли веру на земле?» (Лук 18:8).
В отношении будущего эволюционного учения наиболее вероятным кажется сценарий, аналогичный тому, который был уже реализован в истории с гелиоцентрической теорией Н. Коперника. Первоначально некоторым христианам (как католикам, так и протестантам) эта теория так же казалась противоречащей Священному Писанию, что, однако, не остановило её распространения и развития в собственно научной среде. Благодаря убедительной, доказательной силе науки эта теория утвердилась в сознании сначала учёных, а в конце концов – и всех христиан, и ныне вряд ли уже кто-нибудь станет утверждать, что она противоречит христианскому вероучению. Того же можно ожидать и для теории биологической эволюции, хотя, если ориентироваться по срокам рецепции системы Коперника, то аналогичная окончательная рецепция для эволюционного учения произойдёт ещё не скоро – лет через пятьдесят.
Существует, однако, серьёзная опасность, которая угрожает реализации такого оптимистического сценария и заключается в попытке проникновения креационизма в систему школьного образования. Современная наука трудна для понимания, и доказательства многих её положений оказываются полностью доступными лишь для специалистов, имеющих глубокое образование в узкой предметной области. Поэтому, когда в средней школе ученикам преподаются основы наук, то усвоение многих научных истин основывается не на доказательствах, а на вере в авторитет учителя. И если учитель с самого начала посеет в неокрепшие детские души ложные представления об окружающем их мире, то в дальнейшем эту ложь не удастся опровергнуть никакими доказательствами: все доказательства будут отметаться как «непонятные», люди просто не захотят вникать в их суть. А без такого проникновения, требующего значительных интеллектуальных усилий, научные доказательства не смогут выполнять своей основной убеждающей функции. Человечеству угрожает состояние сознательного невежества, когда, по словам св. апостола Павла, «здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины отвратят слух и обратятся к басням» (2 Тим 4:3–4). Это состояние пока ещё не имело прецедентов в истории, но в настоящее время, когда наука стремительно теряет свой авторитет в обществе, и в свете процитированного предсказания св. апостола Павла его угроза кажется вполне реальной.
Впрочем, как сказано в книге Притчей Соломоновых, «коня приготовляют на день битвы, но победа – от Господа» (Притч 21:31).
Примечания
{1} Например, П. А. Нельсон, один из авторов книги [115] указывает Л. С. Берга в числе биологов, отрицавших существование «разумного замысла», хотя чем, как не «разумным замыслом» были те «законы», которые, согласно Бергу [4], лежали в основе биологической эволюции и управляли ею?
{2} И не только высших, но также, например, и вида Homo sapiens. Вообще сторонники ID избегают говорить о том, каким таксономическим рангом они ограничивают допускаемую ими эволюцию, и остаётся только гадать, что они имеют в виду, когда признают существование организмов «со встроенной способностью изменяться или “эволюционировать” в определённых пределах» [115, стр. 41].
Литература
1. Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. М., изд-во «Наука», 1977, 320 стр.
2. Академии наук против креационизма // В защиту науки. Бюллетень № 6. М., изд-во «Наука», 2009, стр. 35 – 41.
3. Аугуста Й., Буриан З. По путям развития жизни (пер. с чешского). 3-е издание. Прага, изд-во «Артия», 1961, 175 стр.
4. Берг Л. С. Номогенез, или эволюция на основе закономерностей // Берг Л. С. Труды по теории эволюции. 1932 – 1930. Л., изд-во «Наука», 1977, стр. 95 – 311.
5. Бердяев Н. А. Философия свободы. Смысл творчества. М., изд-во «Правда», 1989, 607 стр.
6. Библия и наука. Сборник статей. М., изд-во «Даръ», 2007, 304 стр.
7. Брук Д. Х. Значение человеческого «Я» в эволюционной космологии: что изменил Дарвин? (перев. с англ.) // Гриб А. (ред.). Научное и богословское осмысление предельных вопросов: космология, творение, эсхатология. М., изд-во ББИ, 2008, стр. 68 – 84.
8. Бузин И. Школьная программа и преподавание, ориентированное на православную традицию // Журнал Московской Патриархии, 1997, № 7, стр. 25 – 27.
9. Ван Инваген П. Разновидность дарвинизма (перев. с англ.) // Стюарт М., Печерская Н. (ред.). Наука и религия в диалоге. Сборник научных статей. Т. 4. СПб., изд-во ВРФШ, 2017.
10. Вернадский В. И. Размышления натуралиста. Пространство и время в неживой и живой природе. М., изд-во «Наука», 1975, 173 стр.
11. Вертьянов С. Происхождение жизни: факты, гипотезы, доказательства. 2-е издание. Изд-во Свято-Троицкой Сергиевой лавры, 2003, 128 стр.
12. Гайденко П. П. Христианство и генезис новоевропейского естествознания // Гайденко П. П. (ред.). Философско-религиозные истоки науки. М., изд-во «Мартис», 1997, стр. 44 – 87.
13. Гальбиатти Э., Пьяцца А. Трудные страницы Библии (Ветхий Завет) (перев. с итал.). Милан – Москва, изд-во «Христианская Россия», 1993, 303 стр.
14. Гингерич О. Размышления о научной революции (1543–1687) (перев. с англ.) // Стюарт М., Печерская Н. (ред.). Наука и религия в диалоге. Сборник научных статей. Т. 3. СПб, изд-во ВРФШ, 2016.
15. Головин С. Эволюция мифа. Как человек стал обезьяной. М., изд-во «Паломник», 1999, 128 стр.
16. Гоманьков А. В. Библия и природа. Эволюция, креационизм и христианское вероучение. М., изд-во «ГЕОС», 2014, 187 стр.
17. Гоманьков А. В. Геологическое время и его измерение. М., Товарищество научных изданий КМК, 2007, 58 стр.
18. Гоманьков А. В. «Научный» креационизм как лженаучный аналог исторической геологии // Лженаука в современном мире: медиасфера, высшее образование, школа. Сборник материалов Третьей Международной научно-практической конференции имени В. Л. Гинзбурга и Э. П. Круглякова, проходившей в Санкт-Петербургском государственном университете 26–27 июня 2015 г. СПб, изд-во ВВМ, 2015, стр. 40 – 51.
19. Гоманьков В. И. Старая и новая метафизика, или мировоззрение и Откровение // Журнал Московской Патриархии, 2011, № 7, стр. 70 – 75.
20. Дарвин Ч. Воспоминания о развитии моего ума и характера (автобиография). Дневник работы и жизни (перев. с англ.). М., изд-во Академии Наук СССР, 1957, 251 стр.
21. Дарвин Ч. Происхождение видов путём естественного отбора или сохранение благоприятных рас в борьбе за жизнь (перев. с англ.), СПб, изд-во «Наука», 1991, 539 стр.
22. Диакон Андрей Кураев. Полемичность Шестоднева // Альфа и омега, 1997, № 1 (12), стр. 256 – 280.
23. Диакон Даниил Сысоев. Летопись начала. Изд-во Сретенского монастыря, 1999, 256 стр.
24. Дик Д. Христианский фундаментализм. Сделано в Америке (перев. с англ.) // Бодров А., Толстолуженко М. (ред.). Богословие творения. М., изд-во ББИ, 2013, стр. 256 – 265.
25. Додсон П. Является ли разумный замысел действительно разумным? (перев. с англ.) // Стюарт М., Печерская Н. (ред.). Наука и религия в диалоге. Сборник научных статей. Т. 1. СПб, изд-во ВРФШ, 2014, стр. 303 – 311.
26. Докинз Р. Бог как иллюзия (перев. с англ.). М., изд-во «КоЛибри», 2008, 560 стр.
27. Еп. Василий (Родзянко). Теория распада Вселенной и вера Отцов. Каппадокийское богословие – ключ к апологетике нашего времени. Апологетика XXI века. М., изд-во «Паломник», 1996, 237 стр.
28. [Еп. Севериан Габальский]. О творении мира (перев. с гр.) // Творения отца нашего Иоанна Златоуста, Архиепископа Константинопольского, в русском переводе. Т. 6, кн. 2. СПб, изд-во Санкт-Петербургской Духовной Академии, 1900, стр. 731 – 818.
29. Игнатьев И. А. Иоганн Якоб Шойхцер и его «Herbarium diluvianum» (1709) // Lethaea rossica. Российский палеоботанический журнал, 2009, т. 1, стр. 1 – 14.
30. Игнатьев И. А. // Ископаемые растения и «теория Потопа» // Lethaea rossica. Российский палеоботанический журнал, 2012, т. 7, стр. 35 – 58.
31. Иеромонах Серафим (Роуз). Православный взгляд на эволюцию. Изд-во «Светословъ», 1997, 94 стр.
32. Иноземцев С. А., Таргульян В. О. Верхнепермские палеопочвы: свойства, процессы, условия формирования. М., изд-во «ГЕОС», 2010, 188 стр.
33. Каннингем К. Благочестивая идея Дарвина. Почему и ультрадарвинисты, и креационисты её не поняли (перев. с англ.). М., изд-во ББИ, 2018, 581 стр.
34. Карташёв А. В. Ветхозаветная библейская критика. М., издательский дом «Познание», 2017, 114 стр.
35. Крейг У., Морленд Д. (ред.) Новое естественное богословие (перев. с англ.). М., изд-во ББИ, 2014, 801 стр.
36. Кругляков Э. П. Мировая наука о креационизме и эволюции // В защиту науки. Бюллетень № 4. М., изд-во «Наука», 2008, стр. 17 – 22.
37. Кюнг Г. Начало всех вещей. Естествознание и религия (перев. с нем.). М., изд-во ББИ, 2007, 250 стр.
38. Лаломов А. Пешком в прошлое, или Прогулка по залам Палеонтологического музея // Божественное Откровение и современная наука. Альманах. Выпуск 2. М.: изд-во Храма пророка Даниила на Кантемировской, 2005, стр. 155 – 174.
39. Майоров Г. Г. Формирование средневековой философии. Латинская патристика. М., изд-во «Мысль», 1979, 440 стр.
40. Мейен С. В. Введение в теорию стратиграфии. М., изд-во «Наука», 1989, 215 стр.
41. .Мейен С. В. О наиболее общих принципах исторических реконструкций в геологии // Известия АН СССР, серия геологическая, 1978, № 11, стр. 79 – 91.
42. .Мейен С. В. Понятие времени и типология объектов (на примере биологии и геологии) // Понятие материи и её структурные уровни. М., изд-во «Наука», 1982, стр. 311 – 316.
43. Мейтсон С. Научная и религиозная критика теории разумного замысла (перев. с англ.) // Стюарт М., Печерская Н. (ред.). Наука и религия в диалоге. Сборник научных статей. Т. 2. СПб., изд-во ВРФШ, 2015, стр. 407 – 423.
44. Митрополит Иоанн (Вендланд). Библия и эволюция. Ярославль, 1998, 126 стр.
45. Моррис Г. Библейские основания современной науки (перев. с англ.). СПб, 1995, 259 стр.
46. Никонов Н. И. Тайна Шестого Дня: дни Творения или миллионы лет? СПб, изд-ва «Ладан» и «Троицкая школа», 2008, 95 с.
47. Новая толковая Библия с иллюстрациями Гюстава Дорэ в 12 томах. Т. 1. Л., 1990, 393 стр.
48. Октоих, сиречь осмогласник. Приложение. М., изд-во Московской Патриархии, 1981, 208 стр.
49. Ориген. О началах (перев. с лат. и гр.). Самара, изд-во «РА», 1993, 318 стр.
50. Отец Серафим (Роуз). Православное святоотеческое понимание Книги Бытия (перев. с англ.). М., изд-во Российского Отделения Валаамского Общества Америки, 1998, 126 стр.
51. Петров М. К. Перед «Книгой природы». Духовные леса и предпосылки научной революции XVII в. // Природа, 1978, № 8, стр. 110 – 119.
52. Поппер К. Р. Естественный отбор и возникновение разума (перев. с англ.) // Эволюционная эпистемология и логика социальных наук: Карл Поппер и его критики. М., изд-во «Эдиториал УРСС», 2000, стр. 75 – 91.
53. Протоиерей Александр Салтыков. Творение мира в святоотеческой традиции // «Вся премудростию сотворил еси…». М., изд-во ПСТГУ, 2011, стр. 6 – 88 (Тр. семинара ПСТГУ «Наука и вера», вып. 1).
54. Протоиерей Глеб Каледа. Волхвы. Рождественская проповедь // Профессор, протоиерей Глеб Каледа. Полнота жизни во Христе. Проповеди. М., изд-во «Зачатьевский монастырь», 1996, стр. 44 – 64.
55. Протоиерей Глеб Каледа. Домашняя церковь. Очерки духовно-нравственных основ созидания и построения семьи в современных условиях. Издание второе. М., изд-во «Зачатьевский монастырь», 1998, 281 стр.
56. Протоиерей Кирилл Копейкин. Что есть реальность? Размышления над произведениями Эрвина Шредингера. СПб, изд-во Санкт-Петербургского университета, 2014, 138 стр.
57. Протоиерей Константин Буфеев. Православное учение о сотворении и теория эволюции. М., Русский Издательский Центр имени святого Василия Великого, 2014, 438 стр.
58. Протоиерей Леонид Цыпин. Вселенная, Космос, Жизнь – три Дня Творения. Киев, изд-во «Пролог», 2008, 640 стр.
59. Протоиерей Николай Иванов. И сказал Бог… Библейская онтология и библейская антропология. Опыт истолкования книги Бытия (гл. 1 – 5). Клин, изд-во фонда «Христианская жизнь», 1997, 381 стр.
60. Протоиерей Стефан Ляшевский. Опыт согласования современных научных данных с библейским повествованием в свете новейших археологических раскопок и исследований (перев. с сербского). Издание Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, 1994, 167 стр.
61. Рацш Д. Религиозные корни науки (перев. с англ.) // Стюарт М., Печерская Н. А. (ред.). Наука и религия в диалоге. Сборник научных статей. Т. 1. СПб, изд-во ВРФШ, 2014, стр. 44 – 65.
62. Сарфати Д. Пятнадцать способов опровергнуть материалистический вздор: подробный ответ журналу “Scientific American” // Божественное откровение и современная наука. Альманах. Вып. 2. М., изд-во Храма пророка Даниила на Кантемировской, 2005, стр. 110 – 137.
63. Св. блаженный Августин. Исповедь (перев. с лат.) // Творения блаженного Августина, Епископа Иппонийского. Ч. 1. Издание 3-е. Киев, 1914, стр. 1 – 442 (фототипическое издание изд-ва «Жизнь с Богом», Bruxelles, 1974).
64. Св. блаженный Августин. О граде Божием. Кн. 8 – 13 (перев. с лат.) // Творения блаженного Августина, Епископа Иппонийского. Ч. 4. Издание 2-е. Киев, 1905, стр. 1 – 326 (фототипическое издание изд-ва «Жизнь с Богом», Bruxelles, 1974).
65. Св. блаженный Августин. О книге Бытия буквально. Кн. 1 – 4 (перев. с лат.) // Творения блаженного Августина, Епископа Иппонийского. Ч. 7. Издание 2-е. Киев, 1912, стр. 142 – 278 (фототипическое издание изд-ва «Жизнь с Богом», Bruxelles, 1974).
66. Св. блаженный Августин. О книге Бытия буквально. Кн. 5 – 12 (перев. с лат.) // Творения блаженного Августина, Епископа Иппонийского. Ч. 8. Издание 2-е. Киев, 1915, стр. 1 – 309 (фототипическое издание изд-ва «Жизнь с Богом», Bruxelles, 1974).
67. Св. блаженный Августин. О книге Бытия буквально. Книга неоконченная (перев. с лат.) // Творения блаженного Августина, Епископа Иппонийского. Ч. 7. Издание 2-е. Киев, 1912, стр. 96 – 141 (фототипическое издание изд-ва «Жизнь с Богом», Bruxelles, 1974).
68. Св. блаженный Августин. Против академиков (перев. с лат.) // Творения блаженного Августина, Епископа Иппонийского. Ч. 2. Издание 2-е. Киев, 1905, стр. 1 – 104 (фототипическое издание изд-ва «Жизнь с Богом», Bruxelles, 1974).
69. Св. преп. Ефрем Сирин. О рае (перев. с сирийского) // Творения иже во святых отца нашего Ефрема Сирина. Ч. 5. Издание четвёртое. Изд-во Свято-Троицкой Сергиевой лавры, 1900, стр. 259 – 298.
70. Св. преп. Ефрем Сирин. Толкование на книгу Бытия (перев. с сирийского)// Творения иже во святых отца нашего Ефрема Сирина. Ч. 6. Изд-во Свято-Троицкой Сергиевой лавры, 1901, стр. 205 – 337.
71. Свт. Афанасий Великий. Слово на язычников (перев. с гр.) // Творения св. Афанасия Великого. Ч. I. Изд-во Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1994, стр. 125 – 191.
72. Свт. Василий Великий. Беседы на Шестоднев (перев. с гр.) // Творения иже во святых отца нашего Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской. Ч. I. М., 1845, стр. 1 – 174.
73. Свт. Григорий Богослов. Слово 6 о мире, произнесённое в присутствии отца после предшествовавшего молчания по случаю воссоединения монашествующих (перев. с гр.) // Григорий Богослов. Собрание творений. Т. I. Минск, изд-во «Харвест» – М., изд-во «АСТ», 2000, стр. 175 – 191.
74. Свт. Григорий Нисский. О Шестодневе. Слово защитительное брату Петру (перев. с гр.) // Творения святого Григория Нисского. Ч. 1. М., 1861, стр. 1 – 75 (Творения святых отцов в русском переводе, издаваемые при МДА, т. 37).
75. Свт. Григорий Нисский. Об устроении человека (перев. с гр.) // Творения святого Григория Нисского. Ч. 1. М., 1861, стр. 76 – 222 (Творения святых отцов в русском переводе, издаваемые при МДА, т. 37).
76. Свт. Иоанн Златоуст. Беседы на Книгу Бытия (перев. с гр.). М., изд-во Спасского братства, 2011, 808 стр.
77. Священник Алексей Князев. Господь, муж брани (К уяснению религиозного значения книги Исход) // Православная мысль. Труды Православного Богословского Института в Париже, 1949, вып. VII, стр. 105 – 125.
78. Священник Антоний Лакирев. Почему Бог выбрал эту обезьяну. Изд-во "Издательские решения", 2021, 328 стр.
79. Священник Владимир Соколов. Мистика или духовность? Ереси против христианства. М., изд-во Данилова мужского монастыря, 2014, 560 стр.
80. Священник Георгий Максимов. Правда о «православном» эволюционизме. М., изд-во Православного миссионерского общества имени преп. Серапиона Кожеозерского, 2015, 128 стр.
81. Священник Даниил Сысоев. «Кто, как Бог?» или сколько длился день творения. М., изд-во Храма пророка Даниила на Кантемировской, 2011, 176 стр.
82. Священник Леонид Цыпин. Так чем же являются Дни Творения? Центральная проблема экзегетики Шестоднева. Киев, изд-во « Пролог», 2005, 142 стр.
83. Священник Олег Петренко. Творение или эволюция? // Христианство и наука. Сборник докладов конференции (28 января 1999 года). М., 2000, стр. 52 – 69.
84. Священник Сергий Соколов. Мир иной и время Вселенной. Время и вечность. М., изд-во «Ковчег», 2008, 336 стр.
85. Священник Тимофей. Православное мировоззрение и современное естествознание. Уроки креационной науки в старших классах средней школы. М., изд-во «Паломник», 1998, 207 стр.
86. Священник Тимофей. Две космогонии. Эволюционная теория в свете святоотеческого учения и аргументов креационной науки. М., изд-во «Паломник», 1999, 159 стр.
87. Селезнёв М. Исследуйте Писания. О переломном моменте в истории русской библеистики // Журнал Московской Патриархии, 2014, № 2, стр. 70 – 76.
88. Сидоров Г. Н., Шустова О. Б., Разумов В. И. Наука и философия о развитии жизни на Земле // Философия науки, 2003, № 4 (19), стр. 36 – 63.
89. Солуха М. Шестоднев о прахе земном. Издание третье, исправленное и дополненное. М., 2018, 400 стр.
90. Сошинский С. А. Шестоднев и наука: проблема согласования или кризис встречи? // «Вся премудростию сотворил еси…». М., изд-во ПСТГУ, 2011, стр. 162 – 243 (Тр. семинара ПСТГУ «Наука и вера», вып. 1).
91. Тейяр де Шарден П. Божественная среда (перев. с фр.). М., изд-во «Ренессанс», 1993, 311 стр.
92. Тейяр де Шарден П. Феномен человека (перев.с фр.). М., изд-во «Устойчивый мир», 2001, 231 стр.
93. Той повеле, и создашеся. Современные учёные о сотворении мира. Клин, изд-во фонда «Христинская жизнь», 1999, 191 стр.
Ф. Маркса, 1907, стр. 498 – 500.
94. Толстой А. К. Послание к М. Н. Лонгинову о дарвинизме // Полное собрание сочинений гр. А. К. Толстого. Т. 1. СПб., изд-во А. Ф. Маркса, 1907, стр. 498 – 500.
95. Трубецкой Е. Н. Избранное. М., изд-во «Канон», 1997, 480 стр.
96. Фиолетов Н. Н. Очерки христианской апологетики. М., изд-во Братства во Имя Всемилостивого Спаса, 1993, 193 стр.
97. Франк С. Л. Религия и наука. Второе издание. Франкфурт-на Майне, изд-во «Посев», 1967, 47 стр.
98. Хаарсма Д. Как христиане согласовывают древние тексты с современной наукой (перев.с англ.) // Стюарт М., Печерская Н. (ред.). Наука и религия в диалоге. Сборник научных статей. Т. 1. СПб, изд-во ВРФШ, 2014, стр. 136 – 151.
99. Хаарсма Л. Бог, эволюция и замысел (перев. с англ.) // Стюарт М., Печерская Н. (ред.). Наука и религия в диалоге. Сборник научных статей. Т. 1. СПб, изд-во ВРФШ, 2014, стр. 205 – 222.
100. Хайнц Т. Творение или эволюция: Анализ теории эволюции в свете Священного Писания (пер. с англ.). Chicago, Slavic Gospel Press, 1978, 160 стр.
101. Храмов А. В. Обезьяна и Адам. Может ли христианин быть эволюционистом? М., изд-во «Никея», 2019, 216 стр.
102. Чайковский Ю. В. Зигзаги эволюции. Развитие жизни и иммунитет. М., изд-во «Наука и жизнь», 2010, 110 стр.
103. Чайковский Ю. В. Эволюция. Книга для изучающих и преподающих биологию. М., изд-во Центра системных исследований, 2003, 472 стр.
104. Шестоднев против эволюции. В защиту святоотеческого учения о творении (Сборник статей). М., изд-во «Паломник», 2000, 303 стр.
105. Шустова О. Б. Сравнительный анализ эволюционного и креационного подходов к происхождению и развитию жизни. Автореф. дисс. канд. филос. наук. Новосибирск, 2006, 16 стр.
106. Шустова О. Б., Сидоров Г. Н. Эволюционизм и креационизм: наука или философия? Омск, изд-во ФГОУ ВПО ОмГАУ, 2009, 200 стр.
107. Яки С. Спаситель науки (перев. с англ.). М., изд-во Греко-латинского кабинета Ю. А. Шичалина, 1993, 315 стр.
108. Яннарас Х. Вера Церкви. Введение в православное богословие (перев. с новогреческого). М., изд-во Центра по изучению религий, 1993, 231 стр.
109. Behe M. J. Darwin’s Black Box: The Biochemical Challenge to Evolution. New York, The Free Press, 1998, 307 pp.
110. Dembski W. A. No Free Lunch: Why Specified Complexity Cannot be Purchased without Intelegence. Lanham, Rowman & Littlefield Publishers, 2002, 404 pp.
111. Dennett D. Darwin’s Dangerous Idea. Evolution and the Meaning of Life. New York, Simon and Schuster, 1995, 586 pp.
112. Gould S. Nonoverlapping magisteria // Natural History, 1997, vol. 106 (2), pp. 16 – 22.
113. Gräbsch A., Schiermeier Q. Anti-evolutionists raise their profile in Europe // Nature, 2006, vol. 444, iss. No. 7118, pp. 406 – 407.
114. Haubold H. Die Lebenwelt des Rotliegenden. Wittenberg, Lutherstadt, A. Ziemsen Velag, 1982, 246 S.
115. Moreland J. P., Meyer S. C., Shaw C., Gauger A. K. (eds.). Theistic evolution. A scientific, philosophical, and theological critique. Wheaton, Crossway, 2017, 1008 pp.
116. Phipps W. E. Darwin, the Scientific Creationist // Christian Century, Sept. 14–21, 1983, pp. 809 – 811.
117. Sherman M. Y. Universal Genome in the Origin of Metazoa: Thoughts about Evolution // Cell Cycle, 2007, vol. 6, No.15, pp. 1873 – 1877.
Выражение «разумный замысел» используется обычно в русскоязычной литературе в качестве перевода английского “intelligent design” (или сокращённо ID) [43]. Перевод этот не вполне точен, т. к. английское слово “design” не имеет адекватного эквивалента в русском языке. Обычно им обозначается не просто замысел, а замысел, который уже получил материальное воплощение и который в этом воплощении с очевидностью усматривается. В силу этого я в дальнейшем буду обозначать данную теорию так, как она обозначается в англоязычной литературе – ID.
Конкретные взгляды адептов ID обнаруживают значительное разнообразие, и в силу этого данная теория не имеет чётко очерченных границ и, строго говоря, должна рассматриваться даже не как теория, а как довольно расплывчатое движение, одним своим «крылом» примыкающее к креационизму, а другим – к христианскому эволюционизму. Сторонники ID настаивают на том, что в живых организмах усматривается так называемая «нередуцируемая» или «специфическая» сложность, которая может воспроизводиться в череде поколений, но не может возникать самопроизвольно (путём «самоорганизации») из более простых структур. Поэтому адепты ID, как правило, признают всю эволюцию Вселенной в её небиологической части (в том числе и большую длительность этого процесса), но категорически отвергают биологическую эволюцию в её дарвиновской или неодарвинистической интерпретации. Наличие «нередуцируемой» или «специфической» сложности, по их мнению, является очевидным и неоспоримым свидетельством того, что отдельные таксоны живых существ создавались Богом, а эволюционные теории дарвинистического толка объявляются безусловно «материалистическими» и несовместимыми с содержанием Шестоднева.
«Разумный замысел», «нередуцируемая» или «специфическая» сложность (реальность информационного типа) сторонников ID, очевидно, имеет много общего с «законами», управляющими эволюцией согласно теории номогенеза. В силу этого можно было бы отождествить ID со взглядами христианских эволюционистов, исповедующих номогенез, и считать, что разногласия с «теистической эволюцией», которые декларируются сторонниками ID [115], суть чисто научные разногласия, касающиеся механизмов и движущих сил эволюционного процесса и бытующие в биологической литературе уже около 100 лет, а приписывание им принципиального религиозного смысла со стороны адептов ID есть следствие плохого знакомства этих адептов с теорией номогенеза {1}.
Но вместе с тем многие сторонники ID отрицательно относятся к широко принимаемой современными биологами теории «универсального общего предка», согласно которой всё многообразие органического мира возникло из одного предкового вида. И хотя во введении к книге «Теистическая эволюция: научная, философская и богословская критика» говорится, что «теория разумного замысла не отвергает с необходимостью эволюцию», понимаемую как развитие всего живого от универсального общего предка [115, стр. 46], но многие главы этой книги посвящены именно критике теории универсального общего предка, в том числе и критике представлений о существовании общего предка у человека и человекообразных обезьян. За всей этой критикой легко просматривается отвержение сторонниками ID creatio ex aliquo для подавляющего большинства биологических таксонов, т. е. 3-го принципа христианского эволюционизма, сформулированного в разделе 3.4.
В целом ID выглядит гораздо «научнее», чем креационизм (даже тот, который сам называет себя «научным»): адепты ID оперируют достаточно большим массивом биологических данных и делают это более грамотно, чем креационисты. Тем не менее, бóльшая часть мирового научного сообщества рассматривает ID как одно из направлений креационизма и считает его псевдонаучной концепцией.
ID возник в протестантской среде США в 80-ых годах прошлого века и продолжает развиваться параллельно с креационизмом в противостоянии «нормальной» биологической науке [109, 110, 115, 117; см. также библиографию в 43]. В русскоязычной литературе заметно пока лишь очень немного явных приверженцев этого движения (чуть ли не единственным примером может служить книга [89]), хотя, возможно, только «пока»: в Интернете мне нередко доводилось встречаться с мнениями относительно биологической эволюции, изложенными на русском языке и вполне выдержанными в духе ID. Идейно к ID близки произведения В. И. Разумова, Г. Н. Сидорова и О. Б. Шустовой [88, 105, 106], хотя осведомлённость этих авторов в ID-литературе (судя по ссылкам) довольно низкая, термин «разумный замысел» они не употребляют и позиционируют самих себя как креационистов.
Конечно, отрицание универсального общего предка и вообще происхождения одних таксонов от других (по крайней мере, таксонов высоких рангов) роднит ID с креационизмом. Подобно креационистам, адепты ID не дают никакого естественного объяснения возникновению высших таксонов{2}, что делает их концепцию столь же внутренне противоречивой, как креационизм, и беспомощной перед лицом тех же самых вопросов, которые оказываются роковыми и для этого учения, рассмотренного выше (см. раздел 3.2, а также [25, 43]).
4. Заключение
Таковы на сегодняшний день основные концепции интерпретации Шестоднева. Какое будущее ожидает каждую из них? Ответить на этот вопрос трудно, ибо будущее зависит, в том числе, и от наших собственных усилий, прилагаемых в настоящем. Конечно, по обещанию Господа нашего Иисуса Христа (Матф 16:18) врата ада не одолеют Церкви, и Она до скончания века пребудет «столпом и утверждением истины» (1 Тим 3:15). Это обстоятельство порождает веру в то, что истина, добытая наукой, в том числе и истина об эволюционном развитии природного мира никогда, по крайней мере, не будет отлучена от церковного сознания, не будет объявлена ересью, несовместимой с пребыванием её адептов в лоне Церкви (как того требуют креационисты). Но будущее широкое распространение Церкви (и, следовательно, истины) в окружающем Её мире уже не столь очевидно. Нельзя забывать, что даже Сам Спаситель вопрос о сохранении в мире истинной веры до конца времён оставил открытым: «Но Сын Человеческий, придя, найдёт ли веру на земле?» (Лук 18:8).
В отношении будущего эволюционного учения наиболее вероятным кажется сценарий, аналогичный тому, который был уже реализован в истории с гелиоцентрической теорией Н. Коперника. Первоначально некоторым христианам (как католикам, так и протестантам) эта теория так же казалась противоречащей Священному Писанию, что, однако, не остановило её распространения и развития в собственно научной среде. Благодаря убедительной, доказательной силе науки эта теория утвердилась в сознании сначала учёных, а в конце концов – и всех христиан, и ныне вряд ли уже кто-нибудь станет утверждать, что она противоречит христианскому вероучению. Того же можно ожидать и для теории биологической эволюции, хотя, если ориентироваться по срокам рецепции системы Коперника, то аналогичная окончательная рецепция для эволюционного учения произойдёт ещё не скоро – лет через пятьдесят.
Существует, однако, серьёзная опасность, которая угрожает реализации такого оптимистического сценария и заключается в попытке проникновения креационизма в систему школьного образования. Современная наука трудна для понимания, и доказательства многих её положений оказываются полностью доступными лишь для специалистов, имеющих глубокое образование в узкой предметной области. Поэтому, когда в средней школе ученикам преподаются основы наук, то усвоение многих научных истин основывается не на доказательствах, а на вере в авторитет учителя. И если учитель с самого начала посеет в неокрепшие детские души ложные представления об окружающем их мире, то в дальнейшем эту ложь не удастся опровергнуть никакими доказательствами: все доказательства будут отметаться как «непонятные», люди просто не захотят вникать в их суть. А без такого проникновения, требующего значительных интеллектуальных усилий, научные доказательства не смогут выполнять своей основной убеждающей функции. Человечеству угрожает состояние сознательного невежества, когда, по словам св. апостола Павла, «здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины отвратят слух и обратятся к басням» (2 Тим 4:3–4). Это состояние пока ещё не имело прецедентов в истории, но в настоящее время, когда наука стремительно теряет свой авторитет в обществе, и в свете процитированного предсказания св. апостола Павла его угроза кажется вполне реальной.
Впрочем, как сказано в книге Притчей Соломоновых, «коня приготовляют на день битвы, но победа – от Господа» (Притч 21:31).
Примечания
{1} Например, П. А. Нельсон, один из авторов книги [115] указывает Л. С. Берга в числе биологов, отрицавших существование «разумного замысла», хотя чем, как не «разумным замыслом» были те «законы», которые, согласно Бергу [4], лежали в основе биологической эволюции и управляли ею?
{2} И не только высших, но также, например, и вида Homo sapiens. Вообще сторонники ID избегают говорить о том, каким таксономическим рангом они ограничивают допускаемую ими эволюцию, и остаётся только гадать, что они имеют в виду, когда признают существование организмов «со встроенной способностью изменяться или “эволюционировать” в определённых пределах» [115, стр. 41].
Литература
1. Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. М., изд-во «Наука», 1977, 320 стр.
2. Академии наук против креационизма // В защиту науки. Бюллетень № 6. М., изд-во «Наука», 2009, стр. 35 – 41.
3. Аугуста Й., Буриан З. По путям развития жизни (пер. с чешского). 3-е издание. Прага, изд-во «Артия», 1961, 175 стр.
4. Берг Л. С. Номогенез, или эволюция на основе закономерностей // Берг Л. С. Труды по теории эволюции. 1932 – 1930. Л., изд-во «Наука», 1977, стр. 95 – 311.
5. Бердяев Н. А. Философия свободы. Смысл творчества. М., изд-во «Правда», 1989, 607 стр.
6. Библия и наука. Сборник статей. М., изд-во «Даръ», 2007, 304 стр.
7. Брук Д. Х. Значение человеческого «Я» в эволюционной космологии: что изменил Дарвин? (перев. с англ.) // Гриб А. (ред.). Научное и богословское осмысление предельных вопросов: космология, творение, эсхатология. М., изд-во ББИ, 2008, стр. 68 – 84.
8. Бузин И. Школьная программа и преподавание, ориентированное на православную традицию // Журнал Московской Патриархии, 1997, № 7, стр. 25 – 27.
9. Ван Инваген П. Разновидность дарвинизма (перев. с англ.) // Стюарт М., Печерская Н. (ред.). Наука и религия в диалоге. Сборник научных статей. Т. 4. СПб., изд-во ВРФШ, 2017.
10. Вернадский В. И. Размышления натуралиста. Пространство и время в неживой и живой природе. М., изд-во «Наука», 1975, 173 стр.
11. Вертьянов С. Происхождение жизни: факты, гипотезы, доказательства. 2-е издание. Изд-во Свято-Троицкой Сергиевой лавры, 2003, 128 стр.
12. Гайденко П. П. Христианство и генезис новоевропейского естествознания // Гайденко П. П. (ред.). Философско-религиозные истоки науки. М., изд-во «Мартис», 1997, стр. 44 – 87.
13. Гальбиатти Э., Пьяцца А. Трудные страницы Библии (Ветхий Завет) (перев. с итал.). Милан – Москва, изд-во «Христианская Россия», 1993, 303 стр.
14. Гингерич О. Размышления о научной революции (1543–1687) (перев. с англ.) // Стюарт М., Печерская Н. (ред.). Наука и религия в диалоге. Сборник научных статей. Т. 3. СПб, изд-во ВРФШ, 2016.
15. Головин С. Эволюция мифа. Как человек стал обезьяной. М., изд-во «Паломник», 1999, 128 стр.
16. Гоманьков А. В. Библия и природа. Эволюция, креационизм и христианское вероучение. М., изд-во «ГЕОС», 2014, 187 стр.
17. Гоманьков А. В. Геологическое время и его измерение. М., Товарищество научных изданий КМК, 2007, 58 стр.
18. Гоманьков А. В. «Научный» креационизм как лженаучный аналог исторической геологии // Лженаука в современном мире: медиасфера, высшее образование, школа. Сборник материалов Третьей Международной научно-практической конференции имени В. Л. Гинзбурга и Э. П. Круглякова, проходившей в Санкт-Петербургском государственном университете 26–27 июня 2015 г. СПб, изд-во ВВМ, 2015, стр. 40 – 51.
19. Гоманьков В. И. Старая и новая метафизика, или мировоззрение и Откровение // Журнал Московской Патриархии, 2011, № 7, стр. 70 – 75.
20. Дарвин Ч. Воспоминания о развитии моего ума и характера (автобиография). Дневник работы и жизни (перев. с англ.). М., изд-во Академии Наук СССР, 1957, 251 стр.
21. Дарвин Ч. Происхождение видов путём естественного отбора или сохранение благоприятных рас в борьбе за жизнь (перев. с англ.), СПб, изд-во «Наука», 1991, 539 стр.
22. Диакон Андрей Кураев. Полемичность Шестоднева // Альфа и омега, 1997, № 1 (12), стр. 256 – 280.
23. Диакон Даниил Сысоев. Летопись начала. Изд-во Сретенского монастыря, 1999, 256 стр.
24. Дик Д. Христианский фундаментализм. Сделано в Америке (перев. с англ.) // Бодров А., Толстолуженко М. (ред.). Богословие творения. М., изд-во ББИ, 2013, стр. 256 – 265.
25. Додсон П. Является ли разумный замысел действительно разумным? (перев. с англ.) // Стюарт М., Печерская Н. (ред.). Наука и религия в диалоге. Сборник научных статей. Т. 1. СПб, изд-во ВРФШ, 2014, стр. 303 – 311.
26. Докинз Р. Бог как иллюзия (перев. с англ.). М., изд-во «КоЛибри», 2008, 560 стр.
27. Еп. Василий (Родзянко). Теория распада Вселенной и вера Отцов. Каппадокийское богословие – ключ к апологетике нашего времени. Апологетика XXI века. М., изд-во «Паломник», 1996, 237 стр.
28. [Еп. Севериан Габальский]. О творении мира (перев. с гр.) // Творения отца нашего Иоанна Златоуста, Архиепископа Константинопольского, в русском переводе. Т. 6, кн. 2. СПб, изд-во Санкт-Петербургской Духовной Академии, 1900, стр. 731 – 818.
29. Игнатьев И. А. Иоганн Якоб Шойхцер и его «Herbarium diluvianum» (1709) // Lethaea rossica. Российский палеоботанический журнал, 2009, т. 1, стр. 1 – 14.
30. Игнатьев И. А. // Ископаемые растения и «теория Потопа» // Lethaea rossica. Российский палеоботанический журнал, 2012, т. 7, стр. 35 – 58.
31. Иеромонах Серафим (Роуз). Православный взгляд на эволюцию. Изд-во «Светословъ», 1997, 94 стр.
32. Иноземцев С. А., Таргульян В. О. Верхнепермские палеопочвы: свойства, процессы, условия формирования. М., изд-во «ГЕОС», 2010, 188 стр.
33. Каннингем К. Благочестивая идея Дарвина. Почему и ультрадарвинисты, и креационисты её не поняли (перев. с англ.). М., изд-во ББИ, 2018, 581 стр.
34. Карташёв А. В. Ветхозаветная библейская критика. М., издательский дом «Познание», 2017, 114 стр.
35. Крейг У., Морленд Д. (ред.) Новое естественное богословие (перев. с англ.). М., изд-во ББИ, 2014, 801 стр.
36. Кругляков Э. П. Мировая наука о креационизме и эволюции // В защиту науки. Бюллетень № 4. М., изд-во «Наука», 2008, стр. 17 – 22.
37. Кюнг Г. Начало всех вещей. Естествознание и религия (перев. с нем.). М., изд-во ББИ, 2007, 250 стр.
38. Лаломов А. Пешком в прошлое, или Прогулка по залам Палеонтологического музея // Божественное Откровение и современная наука. Альманах. Выпуск 2. М.: изд-во Храма пророка Даниила на Кантемировской, 2005, стр. 155 – 174.
39. Майоров Г. Г. Формирование средневековой философии. Латинская патристика. М., изд-во «Мысль», 1979, 440 стр.
40. Мейен С. В. Введение в теорию стратиграфии. М., изд-во «Наука», 1989, 215 стр.
41. .Мейен С. В. О наиболее общих принципах исторических реконструкций в геологии // Известия АН СССР, серия геологическая, 1978, № 11, стр. 79 – 91.
42. .Мейен С. В. Понятие времени и типология объектов (на примере биологии и геологии) // Понятие материи и её структурные уровни. М., изд-во «Наука», 1982, стр. 311 – 316.
43. Мейтсон С. Научная и религиозная критика теории разумного замысла (перев. с англ.) // Стюарт М., Печерская Н. (ред.). Наука и религия в диалоге. Сборник научных статей. Т. 2. СПб., изд-во ВРФШ, 2015, стр. 407 – 423.
44. Митрополит Иоанн (Вендланд). Библия и эволюция. Ярославль, 1998, 126 стр.
45. Моррис Г. Библейские основания современной науки (перев. с англ.). СПб, 1995, 259 стр.
46. Никонов Н. И. Тайна Шестого Дня: дни Творения или миллионы лет? СПб, изд-ва «Ладан» и «Троицкая школа», 2008, 95 с.
47. Новая толковая Библия с иллюстрациями Гюстава Дорэ в 12 томах. Т. 1. Л., 1990, 393 стр.
48. Октоих, сиречь осмогласник. Приложение. М., изд-во Московской Патриархии, 1981, 208 стр.
49. Ориген. О началах (перев. с лат. и гр.). Самара, изд-во «РА», 1993, 318 стр.
50. Отец Серафим (Роуз). Православное святоотеческое понимание Книги Бытия (перев. с англ.). М., изд-во Российского Отделения Валаамского Общества Америки, 1998, 126 стр.
51. Петров М. К. Перед «Книгой природы». Духовные леса и предпосылки научной революции XVII в. // Природа, 1978, № 8, стр. 110 – 119.
52. Поппер К. Р. Естественный отбор и возникновение разума (перев. с англ.) // Эволюционная эпистемология и логика социальных наук: Карл Поппер и его критики. М., изд-во «Эдиториал УРСС», 2000, стр. 75 – 91.
53. Протоиерей Александр Салтыков. Творение мира в святоотеческой традиции // «Вся премудростию сотворил еси…». М., изд-во ПСТГУ, 2011, стр. 6 – 88 (Тр. семинара ПСТГУ «Наука и вера», вып. 1).
54. Протоиерей Глеб Каледа. Волхвы. Рождественская проповедь // Профессор, протоиерей Глеб Каледа. Полнота жизни во Христе. Проповеди. М., изд-во «Зачатьевский монастырь», 1996, стр. 44 – 64.
55. Протоиерей Глеб Каледа. Домашняя церковь. Очерки духовно-нравственных основ созидания и построения семьи в современных условиях. Издание второе. М., изд-во «Зачатьевский монастырь», 1998, 281 стр.
56. Протоиерей Кирилл Копейкин. Что есть реальность? Размышления над произведениями Эрвина Шредингера. СПб, изд-во Санкт-Петербургского университета, 2014, 138 стр.
57. Протоиерей Константин Буфеев. Православное учение о сотворении и теория эволюции. М., Русский Издательский Центр имени святого Василия Великого, 2014, 438 стр.
58. Протоиерей Леонид Цыпин. Вселенная, Космос, Жизнь – три Дня Творения. Киев, изд-во «Пролог», 2008, 640 стр.
59. Протоиерей Николай Иванов. И сказал Бог… Библейская онтология и библейская антропология. Опыт истолкования книги Бытия (гл. 1 – 5). Клин, изд-во фонда «Христианская жизнь», 1997, 381 стр.
60. Протоиерей Стефан Ляшевский. Опыт согласования современных научных данных с библейским повествованием в свете новейших археологических раскопок и исследований (перев. с сербского). Издание Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, 1994, 167 стр.
61. Рацш Д. Религиозные корни науки (перев. с англ.) // Стюарт М., Печерская Н. А. (ред.). Наука и религия в диалоге. Сборник научных статей. Т. 1. СПб, изд-во ВРФШ, 2014, стр. 44 – 65.
62. Сарфати Д. Пятнадцать способов опровергнуть материалистический вздор: подробный ответ журналу “Scientific American” // Божественное откровение и современная наука. Альманах. Вып. 2. М., изд-во Храма пророка Даниила на Кантемировской, 2005, стр. 110 – 137.
63. Св. блаженный Августин. Исповедь (перев. с лат.) // Творения блаженного Августина, Епископа Иппонийского. Ч. 1. Издание 3-е. Киев, 1914, стр. 1 – 442 (фототипическое издание изд-ва «Жизнь с Богом», Bruxelles, 1974).
64. Св. блаженный Августин. О граде Божием. Кн. 8 – 13 (перев. с лат.) // Творения блаженного Августина, Епископа Иппонийского. Ч. 4. Издание 2-е. Киев, 1905, стр. 1 – 326 (фототипическое издание изд-ва «Жизнь с Богом», Bruxelles, 1974).
65. Св. блаженный Августин. О книге Бытия буквально. Кн. 1 – 4 (перев. с лат.) // Творения блаженного Августина, Епископа Иппонийского. Ч. 7. Издание 2-е. Киев, 1912, стр. 142 – 278 (фототипическое издание изд-ва «Жизнь с Богом», Bruxelles, 1974).
66. Св. блаженный Августин. О книге Бытия буквально. Кн. 5 – 12 (перев. с лат.) // Творения блаженного Августина, Епископа Иппонийского. Ч. 8. Издание 2-е. Киев, 1915, стр. 1 – 309 (фототипическое издание изд-ва «Жизнь с Богом», Bruxelles, 1974).
67. Св. блаженный Августин. О книге Бытия буквально. Книга неоконченная (перев. с лат.) // Творения блаженного Августина, Епископа Иппонийского. Ч. 7. Издание 2-е. Киев, 1912, стр. 96 – 141 (фототипическое издание изд-ва «Жизнь с Богом», Bruxelles, 1974).
68. Св. блаженный Августин. Против академиков (перев. с лат.) // Творения блаженного Августина, Епископа Иппонийского. Ч. 2. Издание 2-е. Киев, 1905, стр. 1 – 104 (фототипическое издание изд-ва «Жизнь с Богом», Bruxelles, 1974).
69. Св. преп. Ефрем Сирин. О рае (перев. с сирийского) // Творения иже во святых отца нашего Ефрема Сирина. Ч. 5. Издание четвёртое. Изд-во Свято-Троицкой Сергиевой лавры, 1900, стр. 259 – 298.
70. Св. преп. Ефрем Сирин. Толкование на книгу Бытия (перев. с сирийского)// Творения иже во святых отца нашего Ефрема Сирина. Ч. 6. Изд-во Свято-Троицкой Сергиевой лавры, 1901, стр. 205 – 337.
71. Свт. Афанасий Великий. Слово на язычников (перев. с гр.) // Творения св. Афанасия Великого. Ч. I. Изд-во Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1994, стр. 125 – 191.
72. Свт. Василий Великий. Беседы на Шестоднев (перев. с гр.) // Творения иже во святых отца нашего Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской. Ч. I. М., 1845, стр. 1 – 174.
73. Свт. Григорий Богослов. Слово 6 о мире, произнесённое в присутствии отца после предшествовавшего молчания по случаю воссоединения монашествующих (перев. с гр.) // Григорий Богослов. Собрание творений. Т. I. Минск, изд-во «Харвест» – М., изд-во «АСТ», 2000, стр. 175 – 191.
74. Свт. Григорий Нисский. О Шестодневе. Слово защитительное брату Петру (перев. с гр.) // Творения святого Григория Нисского. Ч. 1. М., 1861, стр. 1 – 75 (Творения святых отцов в русском переводе, издаваемые при МДА, т. 37).
75. Свт. Григорий Нисский. Об устроении человека (перев. с гр.) // Творения святого Григория Нисского. Ч. 1. М., 1861, стр. 76 – 222 (Творения святых отцов в русском переводе, издаваемые при МДА, т. 37).
76. Свт. Иоанн Златоуст. Беседы на Книгу Бытия (перев. с гр.). М., изд-во Спасского братства, 2011, 808 стр.
77. Священник Алексей Князев. Господь, муж брани (К уяснению религиозного значения книги Исход) // Православная мысль. Труды Православного Богословского Института в Париже, 1949, вып. VII, стр. 105 – 125.
78. Священник Антоний Лакирев. Почему Бог выбрал эту обезьяну. Изд-во "Издательские решения", 2021, 328 стр.
79. Священник Владимир Соколов. Мистика или духовность? Ереси против христианства. М., изд-во Данилова мужского монастыря, 2014, 560 стр.
80. Священник Георгий Максимов. Правда о «православном» эволюционизме. М., изд-во Православного миссионерского общества имени преп. Серапиона Кожеозерского, 2015, 128 стр.
81. Священник Даниил Сысоев. «Кто, как Бог?» или сколько длился день творения. М., изд-во Храма пророка Даниила на Кантемировской, 2011, 176 стр.
82. Священник Леонид Цыпин. Так чем же являются Дни Творения? Центральная проблема экзегетики Шестоднева. Киев, изд-во « Пролог», 2005, 142 стр.
83. Священник Олег Петренко. Творение или эволюция? // Христианство и наука. Сборник докладов конференции (28 января 1999 года). М., 2000, стр. 52 – 69.
84. Священник Сергий Соколов. Мир иной и время Вселенной. Время и вечность. М., изд-во «Ковчег», 2008, 336 стр.
85. Священник Тимофей. Православное мировоззрение и современное естествознание. Уроки креационной науки в старших классах средней школы. М., изд-во «Паломник», 1998, 207 стр.
86. Священник Тимофей. Две космогонии. Эволюционная теория в свете святоотеческого учения и аргументов креационной науки. М., изд-во «Паломник», 1999, 159 стр.
87. Селезнёв М. Исследуйте Писания. О переломном моменте в истории русской библеистики // Журнал Московской Патриархии, 2014, № 2, стр. 70 – 76.
88. Сидоров Г. Н., Шустова О. Б., Разумов В. И. Наука и философия о развитии жизни на Земле // Философия науки, 2003, № 4 (19), стр. 36 – 63.
89. Солуха М. Шестоднев о прахе земном. Издание третье, исправленное и дополненное. М., 2018, 400 стр.
90. Сошинский С. А. Шестоднев и наука: проблема согласования или кризис встречи? // «Вся премудростию сотворил еси…». М., изд-во ПСТГУ, 2011, стр. 162 – 243 (Тр. семинара ПСТГУ «Наука и вера», вып. 1).
91. Тейяр де Шарден П. Божественная среда (перев. с фр.). М., изд-во «Ренессанс», 1993, 311 стр.
92. Тейяр де Шарден П. Феномен человека (перев.с фр.). М., изд-во «Устойчивый мир», 2001, 231 стр.
93. Той повеле, и создашеся. Современные учёные о сотворении мира. Клин, изд-во фонда «Христинская жизнь», 1999, 191 стр.
Ф. Маркса, 1907, стр. 498 – 500.
94. Толстой А. К. Послание к М. Н. Лонгинову о дарвинизме // Полное собрание сочинений гр. А. К. Толстого. Т. 1. СПб., изд-во А. Ф. Маркса, 1907, стр. 498 – 500.
95. Трубецкой Е. Н. Избранное. М., изд-во «Канон», 1997, 480 стр.
96. Фиолетов Н. Н. Очерки христианской апологетики. М., изд-во Братства во Имя Всемилостивого Спаса, 1993, 193 стр.
97. Франк С. Л. Религия и наука. Второе издание. Франкфурт-на Майне, изд-во «Посев», 1967, 47 стр.
98. Хаарсма Д. Как христиане согласовывают древние тексты с современной наукой (перев.с англ.) // Стюарт М., Печерская Н. (ред.). Наука и религия в диалоге. Сборник научных статей. Т. 1. СПб, изд-во ВРФШ, 2014, стр. 136 – 151.
99. Хаарсма Л. Бог, эволюция и замысел (перев. с англ.) // Стюарт М., Печерская Н. (ред.). Наука и религия в диалоге. Сборник научных статей. Т. 1. СПб, изд-во ВРФШ, 2014, стр. 205 – 222.
100. Хайнц Т. Творение или эволюция: Анализ теории эволюции в свете Священного Писания (пер. с англ.). Chicago, Slavic Gospel Press, 1978, 160 стр.
101. Храмов А. В. Обезьяна и Адам. Может ли христианин быть эволюционистом? М., изд-во «Никея», 2019, 216 стр.
102. Чайковский Ю. В. Зигзаги эволюции. Развитие жизни и иммунитет. М., изд-во «Наука и жизнь», 2010, 110 стр.
103. Чайковский Ю. В. Эволюция. Книга для изучающих и преподающих биологию. М., изд-во Центра системных исследований, 2003, 472 стр.
104. Шестоднев против эволюции. В защиту святоотеческого учения о творении (Сборник статей). М., изд-во «Паломник», 2000, 303 стр.
105. Шустова О. Б. Сравнительный анализ эволюционного и креационного подходов к происхождению и развитию жизни. Автореф. дисс. канд. филос. наук. Новосибирск, 2006, 16 стр.
106. Шустова О. Б., Сидоров Г. Н. Эволюционизм и креационизм: наука или философия? Омск, изд-во ФГОУ ВПО ОмГАУ, 2009, 200 стр.
107. Яки С. Спаситель науки (перев. с англ.). М., изд-во Греко-латинского кабинета Ю. А. Шичалина, 1993, 315 стр.
108. Яннарас Х. Вера Церкви. Введение в православное богословие (перев. с новогреческого). М., изд-во Центра по изучению религий, 1993, 231 стр.
109. Behe M. J. Darwin’s Black Box: The Biochemical Challenge to Evolution. New York, The Free Press, 1998, 307 pp.
110. Dembski W. A. No Free Lunch: Why Specified Complexity Cannot be Purchased without Intelegence. Lanham, Rowman & Littlefield Publishers, 2002, 404 pp.
111. Dennett D. Darwin’s Dangerous Idea. Evolution and the Meaning of Life. New York, Simon and Schuster, 1995, 586 pp.
112. Gould S. Nonoverlapping magisteria // Natural History, 1997, vol. 106 (2), pp. 16 – 22.
113. Gräbsch A., Schiermeier Q. Anti-evolutionists raise their profile in Europe // Nature, 2006, vol. 444, iss. No. 7118, pp. 406 – 407.
114. Haubold H. Die Lebenwelt des Rotliegenden. Wittenberg, Lutherstadt, A. Ziemsen Velag, 1982, 246 S.
115. Moreland J. P., Meyer S. C., Shaw C., Gauger A. K. (eds.). Theistic evolution. A scientific, philosophical, and theological critique. Wheaton, Crossway, 2017, 1008 pp.
116. Phipps W. E. Darwin, the Scientific Creationist // Christian Century, Sept. 14–21, 1983, pp. 809 – 811.
117. Sherman M. Y. Universal Genome in the Origin of Metazoa: Thoughts about Evolution // Cell Cycle, 2007, vol. 6, No.15, pp. 1873 – 1877.
среда, 19 июня 2019
3.2.1. «Патрологический» креационизм
Иеромонаха Серафима (Роуза) можно назвать в качестве первого и наиболее типичного представителя этого направления, чьи труды оказали и продолжают оказывать решающее формирующее влияние на всю последующую литературу по «патрологическому» креационизму{1}. Аргументация о. Серафима сводится по существу к следующему утверждению: эволюции не было, потому что её существование отрицалось святыми отцами. «Мы не должны, – пишет он [50, стр. 10], – спешить предлагать наши собственные объяснения “трудных” мест <Священного Писания – А. Г.>, но должны сперва попытаться ближе ознакомиться с тем, что святые Отцы говорили об этих местах, сознавая, что они имеют духовную мудрость, которой мы лишены». Следует, однако, помнить, что большинство святых отцов жило задолго до того времени, когда идея эволюции стала предметом христианской мысли. Поэтому те места из их творений, которые могут быть привлечены для толкования Священного Писания в связи с темой эволюции, могут оказаться ещё более трудными для понимания, чем те «трудные» места Библии, которые о. Серафим собирается с их помощью толковать. Святоотеческие тексты, таким образом, сами нуждаются в толковании, которое может быть, вообще говоря, совсем не однозначным (см. выше, раздел 2). «Патрологические» креационисты полностью игнорируют этот факт. Так, о. Серафим сам приводит цитаты из свт. Афанасия Великого и свт. Григория Нисского, которые указывают на существование эволюции. Говоря о том, что под сотворением «из праха земного» можно понимать вполне «естественный» процесс рождения, присущий всем живым организмам, свт. Афанасий пишет: «Первозданный человек был сотворён из праха, как и любой другой; и рука, создавшая тогда Адама, творит и всех тех, кто приходит после него» [50, стр. 10]. Святитель же Григорий Нисский в сочинении «Об устроении человека» прямо указывает, что «…природа как бы из ступенек, то есть из отличительных признаков жизни, делает путь восхождения от самого малого к совершенному» [50, стр. 32]. О. Серафим, однако перетолковывает эти слова святых отцов, пользуясь другими цитатами, вроде бы свидетельствующими против существования эволюции. Если, однако, такое толкование считается возможным, то почему невозможно толкование «в другую сторону», т. е. перетолковывание цитат второй группы на основе цитат первой группы? Ответ на этот вопрос невозможно найти в работах «патрологических» креациостов. Тем не менее, они претендуют на то, что являются единственными носителями православной традиции («наследия святых отцов»), и отказывают сторонникам иных взглядов в праве называться православными христианами вплоть до отлучения их от Церкви [57; 104].
В отношении науки (которая, как известно, доказывает свои положения) «патрологические» креационисты исповедуют теорию, близкую к «теории омфалоса», предложенной английским натуралистом Ф. Г. Госсе в 1857 г. Протоиерей Константин Буфеев называет её «теорией снежка» [104]. Представим себе, – говорит он, – мальчика, который бросает снежок. Наблюдая какой-либо фрагмент траектории этого снежка, мы можем путём расчётов, основанных на законах механики, экстраполировать её как угодно далеко назад. Но на самом деле в определённой точке этой вычисленной траектории стоит мальчик, который и является подлинной причиной рассматриваемого движения. Поэтому реальная история снежка до этой точки будет совсем другой, чем та, которую мы рассчитали на основании наблюдаемого фрагмента его траектории. То же самое можно сказать об истории всего мира. В определённой точке этой истории имел место акт Творения, и это обстоятельство делает некорректными все научные реконструкции далёкого прошлого. Например, если мы наблюдаем галактику, отстоящую от нас на 10 млрд. световых лет, то это не значит, что она возникла 10 миллиардов лет назад. Бог создал её лишь 7 500 лет назад, но при этом заполнил всё пространство между ней и нами светом, который, как кажется, исходит от неё, но в действительности по своему происхождению не имеет с ней ничего общего.
Следствием этой теории является вера в то, что мир лжив и создаёт иллюзии в умах людей, которые его изучают. Конечно, такую веру трудно совместить со свидетельством Шестоднева о том, что мир, созданный Богом, был «хорош весьма» (Быт 1:31). Вероятно, в силу этого бóльшую популярность среди креационистов получила модификация «теории снежка», предложенная генетиком А. И. Ивановым [устное сообщение], который переносит «точку лживости» (т. е. ту точку, за которой любые исторические реконструкции становятся неверными) с момента творения на момент грехопадения. Именно в момент грехопадения первых людей, согласно Иванову, в природе мгновенно и чудесным образом возникли все те феномены, которые ныне рассматриваются как следы длительной эволюции Земли и всей Вселенной в целом. Так, например, динозавры никогда не существовали на Земле в качестве живых организмов, а их кости возникли в земной коре (мгновенно и из ничего) при грехопадении сразу в виде окаменелостей. Хотя такой концепции нельзя отказать в логичности, она по существу отрицает ценность всякого научного исследования, что противоречит церковному учению о «естественном» Откровении (см. раздел 1).
3.2.2. «Научный» креационизм
В отличие от «патрологических», «научные» креационисты стараются доказать отсутствие эволюции средствами самой же науки [6; 11; 15; 38; 62; 79; 85; 86]. Однако с действительно научной точки зрения их аргументация выглядит абсолютно безграмотной и предвзятой и может быть квалифицирована как идеологически окрашенная лженаука [18].
По-видимому, основное доказательство существования эволюции (так называемое «палеонтологическое» доказательство) заключается в существовании стратисферы – внешней оболочки земной коры, сложенной слоистыми осадочными горными породами, где от слоя к слою наблюдается изменение содержащихся в них остатков живых организмов. Этот факт (а точнее, множество фактов, ибо одинаковые последовательности палеонтологических остатков повторяются в разных точках стратисферы) вместе с данными абсолютной геохронологии о весьма значительном возрасте Земли однозначно свидетельствует о том, что органический мир нашей планеты на протяжении её истории не оставался неизменным, а постепенно и необратимо изменялся, т. е. эволюционировал.
В целях объяснения данного феномена креационисты утверждают, что вся или почти вся стратисфера образовалась в результате Всемирного Потопа, описанного в 6-ой – 8-ой главах книги Бытия. Однако внутренняя структура стратисферы противоречит такому объяснению. Исследования этой толщи осадочных горных пород показывают, что бóльшая её часть действительно формировалась в водоёмах, но образовалась в результате размыва суши текучими водами. Таким образом, если Потоп был действительно Всемирным, то в геологической летописи могла отразиться только начальная его стадия, когда ещё не вся суша была залита его водами. Эта толща осадочных горных пород должна была бы нести следы монотонного углубления того бассейна, на дне которого она накапливалась. Некоторые серии слоёв, наблюдаемые в стратисфере, действительно демонстрируют такие признаки углубления водоёма, где шло их образование. Однако, наряду с ними встречаются и такие серии, которые свидетельствуют об обмелении бассейна осадконакопления вплоть до полного его пересыхания. Нередко внутри стратисферы встречаются коры выветривания (т. е. слои, которые в результате высыхания водоёма оказались на поверхности суши, подверглись выветриванию, а затем снова были залиты водой и погребены под новыми порциями осадков) и даже почвенные горизонты, пронизанные корнями наземных растений [см., например, 32]. Наблюдения за динамикой современной растительности показывают, что образование таких горизонтов занимает, по крайней мере, несколько лет, т. е. вся стратисфера никак не могла образоваться в течение тех нескольких месяцев, которые занимала первая начальная фаза Всемирного Потопа.
Трещины усыхания на поверхности слоя осадочной горной породы, образовавшиеся при высыхании влажного осадка в воздушной среде. Отложения позднепермской эпохи (~265 млн. лет назад), Оренбургская обл.

Отпечатки корней высших растений в отложениях позднепермской эпохи
(~265 млн. лет назад). Удмуртия

Но главное, «потопная теория» креационистов никак не объясняет того факта, который выше был назван палеонтологическим доказательством эволюции: наблюдаемых во многих частях стратисферы устойчивых последовательностей органических остатков. Почему, например, аммониты всегда встречаются в стратисфере выше, чем эндоцератиды, дельфины – выше, чем ихтиозавры, а индрикотерии – выше, чем диплодоки? Ведь если все эти животные жили одновременно и одновременно погибали в ходе Всемирного Потопа, то они и захороняться должны были бы вместе, в одних и тех же слоях «потопной» толщи!
Интерпретация всей стратисферы (или, по крайней мере, большей её части) как отложений Всемирного Потопа не нова – она господствовала в геологии ещё в XVIII в. [29; 30]. При этом все организмы, остатки которых встречались в ископаемом состоянии, но которые не известны в настоящее время, считались погибшими во время Потопа и назывались «допотопными». Однако в дальнейшем в результате изучения стратисферы была выявлена её «стратифицированность», т. е. расчленённость на слои, каждый из которых содержал свой уникальный комплекс ископаемых организмов. Этот феномен никак не укладывался в «потопную теорию», и для его объяснения учёным пришлось допустить, что в прошлом произошёл не один Всемирный Потоп, а несколько и после каждого из них (кроме последнего) Бог создавал органический мир Земли заново. «Отец палеонтологии» Ж. Кювье (1769 – 1832) допускал 3 таких акта творения, но уже его ближайший последователь А. д’Орбиньи (1802 – 1857) был вынужден признавать 27 таких актов, а Л. Агассиц (1807 – 1873) – 80! Кроме того, стало выясняться, что наблюдаемые этапы не абсолютно обособлены друг от друга, а демонстрируют некоторую преемственность в составе органических остатков. Всё это привело «потопную теорию» (называемую также теорией катастроф или катастрофизмом) к окончательному крушению. Стало понятно, что история Земли состоит из относительно «спокойных» периодов, разделённых относительно же резкими перестройками, различными по своей значимости и пространственному распространению, да к тому же происходящими не одновременно в разных частях земного шара. Эти общие представления по сей день господствуют в исторической геологии, а «научные» креационисты пытаются вернуть нас к представлениям XVIII в., которые были опровергнуты логикой развития самой же науки.
3.3. Альтеризм
Под термином «альтеризм» (от лат. “alter” – «иной», «другой») объединяется множество взглядов, группирующихся вокруг книги епископа Василия (Родзянко) «Теория распада Вселенной и вера Отцов» [27], в основу которой был положен курс лекций, прочитанных Владыкой в Московской Духовной Академии в 1994 г. Центральная идея альтеризма в её «классическом» выражении может быть сформулирована следующим образом. Наука, конечно, правá в своём отстаивании существования эволюции. Эволюция действительно имела место в истории Земли. Но этот процесс не имеет ничего общего с процессом Творения, описанным в двух первых главах книги Бытия. Большой взрыв, рассматриваемый учёными как начало мира, должен идентифицироваться не с началом Творения (Быт 1:1), а с моментом грехопадения первых людей (Быт 3:6–24). До этого события существовал другой (отсюда и название концепции), «райский» мир, а грехопадение явилось причиной его крушения и возникновения нового мира – того, который ныне и исследуется наукой.
Вера в некий «идеальный» мир, якобы описанный в книге Бытия и отличный от того «материального» мира, в котором мы живём, сближает альтеризм с фабулизмом, но по сравнению с фабулизмом альтеризм придаёт этому «идеальному» миру гораздо бόльшую реальность, приписывая ему действительное существование в истории. С другой стороны, альтеризм близок к креационистской теории «снежка» (особенно в интерпретации А. И. Иванова), изложенной выше, признавая существование прошлого, недоступного для исторических наук, но отличается от неё тем, что отодвигает это «непознаваемое время» на значительно большее расстояние от наших дней. Креационизм допускает научное исследование лишь для последних 7 500 лет, тогда как альтеризм распространяет этот период до 15 миллиардов лет.
Происхождение альтеристских идей может быть связано с такими работами русских религиозных философов начала XX в. как «Философия свободы» Н. А. Бердяева [5] и «Смысл жизни» Е. Н. Трубецкого [95]. Однако полное развитие и распространение эта концепция получила лишь в конце XX в. благодаря упомянутой книге владыки Василия. Созвучна ей и книга священника Сергия Соколова «Мир иной и время Вселенной» [84], хотя из словесной эквилибристики о. Сергия очень трудно понять, признаёт ли он историческую реальность «райского мира», и, соответственно, к какому из двух типов толкований Шестоднева – альтеризму или фабулизму – следует относить его концепцию. Как явствует из предисловия к книге о. Сергия, её автор и вл. Василий создавали свои труды одновременно и независимо друг от друга, но пришли к очень сходным результатам. После того, как они познакомились с идеями друг друга, было решено объединить обе книги в одну, однако смерть вл. Василия помешала осуществлению этого проекта. В дальнейшем идеи альтеризма развивались рядом православных авторов [46; 101].
Поскольку, как отмечалось выше, альтеризм в своём «классическом» выражении не противоречит науке и декларирует свое полное согласие со всеми данными естествознания, касающимися истории Вселенной, Земли и жизни на ней, то несостоятельность его не может быть продемонстрирована естественнонаучными методами. Тотальная ошибочность этой концепции имеет философский характер. Удвоение мира, осуществляемое альтеристами, естественно порождает трудно разрешимый вопрос об отношении этих двух рассматриваемых миров друг к другу. Как связаны друг с другом феномены, принадлежащие разным мирам, но называемые одними и теми же словами («небо», «земля», «вода», «свет», «море», «суша», «трава», «деревья», «звёзды», «рыбы», «птицы», «звери» и т. д.)? Если никак, то почему они одинаково называются? А если как-то связаны, то как при этом сохраняется абсолютная изолированность обоих миров друг от друга, вытекающая из смысла самогó выражения «два мира»?
Если рассмотреть какой-нибудь предмет, о сотворении которого говорится в 1-ой главе книги Бытия, например, Луну, то из текста Священного Писания (Быт 1:14–18) можно понять, что Луна была сотворена на четвертый «день» и после этого продолжала существовать, по крайней мере, до момента грехопадения. С другой стороны, как свидетельствуют данные физики, мир в момент Большого взрыва был совсем иным, чем тот мир, творение которого, согласно книге Бытия, Бог завершил к седьмому «дню» (Быт 1:31 – 2:2). Он был представлен так называемым «физическим вакуумом», и в нём заведомо не было ни Солнца, ни других звёзд, ни Земли, ни Луны, не говоря уже о таких чисто «земных» феноменах как суша, море, растения или животные. Луна же, по данным космогонии, возникла спустя, по крайней мере, 10 миллиардов лет после Большого взрыва. Таким образом, встав на точку зрения еп. Василия и отождествляя грехопадение с Большим взрывом, мы должны признать, что Луна сначала существовала в течение 5-го и 6-го «дней» творения, затем в момент грехопадения она исчезла и не существовала в течение 10 млрд. лет, а затем (та же самая Луна!) вновь возникла и с тех пор продолжает существовать до настоящего времени. Подобную «историю» можно ещё допустить для человека с самотождественностью, определяемой его нематериальной душой, которая может, в принципе, существовать и где-то вне пределов материального мира, но невозможно допустить для объекта чисто материального (каковым является Луна), который по всем философским нормам должен обладать пространственно-временной связностью.
Космологическая теория Большого взрыва показывает, что наш мир, мир, в котором мы живём, действительно возник из ничего и в силу этого действительно является «миром» в самом основном смысле этого слова (замкнутой системой) и со своим «вполне законным» возникновением. Если, соглашаясь с этой теорией, в то же время допускать существование какого-то «другого», райского мира (как это делает еп. Василий), то из такой концепции неизбежно следует, что между обоими «мирами» нет ничего общего. И тогда возникает поистине роковой для любой альтеристской теории вопрос (одновременно онтологический и гносеологический): если мир, существовавший до грехопадения, не имеет ничего общего с тем миром, в котором мы живём сейчас, то почему же в книге Бытия он описывается в терминах нашего мира? Почему боговдохновенный автор книги Бытия ничего не сказал нам о происхождении того, что нас окружает (нашей Земли, нашего Солнца и т. д.), но зачем-то весьма подробно описал возникновение какого-то совсем другого мира, не имеющего к нам ни малейшего отношения? Да еще сделал это с помощью слов, которыми обычно описываются феномены, хорошо знакомые нам по нашему миру, так что получившееся в итоге повествование трудно квалифицировать иначе, чем сознательный обман современников (а именно для них в первую очередь и писалась книга Бытия [22]), а также многих поколений последующих наивных читателей, не знакомых с теорией Большого взрыва. Когда в Символе Веры Бог Отец исповедуется «Творцом неба и земли, видимым же всем и невидимым» или в книге Бытия говорится: «Вот происхождение неба и земли, при сотворении их, в то время, когда Господь Бог создал землю и небо, и всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла...» (Быт 2:4), то надо, кажется, обладать поистине извращённым сознанием, чтобы думать, будто речь здесь идёт совсем не о той земле, по которой мы ходим ногами, и не о том небе, которое видим у себя над головой.
Этот вопрос можно перевести и на гносеологический язык. Если феномены «того» мира имеют что-либо общее с феноменами «этого» мира, то они в силу этого доступны для изучения, хотя бы и частичного. В исторических науках (космологии, исторической геологии, палеонтологии, археологии, истории, криминалистике) разработаны специальные методы такого частичного познания, позволяющие строить (естественно, не полные) исторические реконструкции [см., например, 41]. При этом учитывается, что многое из того, что мы наблюдаем сейчас, может изменяться, если мы будем двигаться вспять по оси времени, но если хоть что-нибудь сохраняется, то этого уже достаточно для построения хоть каких-то моделей прошлого. Так вот, применение этих методов к нашему миру ничего кроме обычной эволюционной картины, поставляемой теорией Большого взрыва и палеонтологией, не даёт. Следовательно, если какой-нибудь «иной» мир и существовал бы до нашего или «параллельно» с нашим, то он был бы абсолютно для нас непознаваем и, следовательно, неописуем на каком бы то ни было человеческом языке.
О тождестве одноимённых феноменов, существовавших до и после грехопадения, говорит и само Священное Писание, например, в следующих словах: «И выслал его <Адама> Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят» (Быт 3:23). Адам был создан, очевидно, из той «земли», которая существовала в «райском» мире. И эту же самую «землю» он должен был возделывать после своего изгнания из рая.
Попытки преодоления описанных трудностей философского характера, с которыми сталкивается концепция владыки Василия, породили разновидность альтеризма [И. Ю. Бугрова, устное сообщение], которую можно назвать «теорией низвержения». Согласно этой теории от момента грехопадения до момента изгнания первых людей из рая прошло некоторое время, в течение которого Бог последовательно «низвергал» отдельные феномены из «райского» (1-го) мира в «падший» (2-ой), чем, собственно, и обусловлено их последовательное появление в нашем 2-ом мире, т. е. его эволюция. Тождество феноменов, принадлежащих разным мирам, обуславливается синхронностью событий их исчезновения из 1-го мира и появления во 2-ом мире. Тем самым обеспечивается временнáя непрерывность материальных объектов, которой требует философия для корректного рассуждения о них. Однако эта «теория низвержения» не выдерживает критики перед лицом фактов естественной истории. Дело в том, что многие «более поздние» (как по книге Бытия, так и по геологической летописи) феномены не могут существовать без «более ранних». Например, Земля как планета возникла в нашем (2-ом) мире (т. е. перестала существовать в 1-ом мире) примерно 4,6 млрд. лет назад, а «скоты и звери» (млекопитающие животные) – только 230 млн. лет назад. Спрашивается: в каком месте 1-го мира они существовали в течение всего срока, разделяющего две эти даты (~4,4 млрд. лет)? В открытом космосе? Но они не могли там существовать и одного мгновения (даже если допустить, что время в 1-ом и во 2-ом мирах шло с разной скоростью, теория «низвержения» всё равно требует, чтобы сам этот процесс «низвержения» продолжался в течение какого-то ненулевого по своей продолжительности временнóго интервала)!
Дальнейшая попытка усовершенствования альтеризма, которую можно назвать «теорией частичного низвержения», была предпринята Н. И. Никоновым [46]. Этот автор совмещает момент грехопадения не с Большим взрывом, а с возникновением Земли как планеты (событием, произошедшим 4,6 млрд. лет назад), допуская, таким образом, некоторую общность между 1-ым и 2-ым миром, что позволяет ему говорить о «низвержении» не всех феноменов 1-го мира, а лишь некоторых. Сам он фактически говорит о «низвержении» только животных и человека, оставляя читателя в полном неведении (и недоумении) об истории таких феноменов как, например, океаны и континенты или растения. Впрочем, даже такая модификация теории «низвержения» не спасает её от тех возражений, которые выдвигает против неё геологическая летопись, ибо на 10-ом миллиарде лет существования Вселенной Земля была не намного более пригодна для жизни, чем кварковая плазма в первую миллионную долю секунды после Большого взрыва. Первые полмиллиарда лет после возникновения Земли её поверхность была покрыта раскаленным магматическим «океаном», температура которого составляла больше 1 0000С, на ней совсем не было жидкой воды, а в атмосфере почти совсем не было свободного кислорода. Пригодной для существования теплокровных млекопитающих животных земная атмосфера стала лишь около 250 млн. лет назад. Соответственно, вопрос о том, где существовали «скоты и звери» (не говоря уже о человеке) с момента грехопадения до момента их появления во 2-ом мире, остаётся по-прежнему неразрешимым и в рамках «теории частичного низвержения». Таким образом, альтеризм, даже преобразованный в «теорию частичного низвержения», продолжает быть несостоятельным перед лицом фактов, добытых естествознанием.
3.4. Христианский эволюционизм
Общая концепция православного эволюционизма может быть выражена в следующих тезисах, отличающих его от фабулизма, креационизма и альтеризма.
1) Шестоднев написан в жанре исторической хроники. Он содержит описание (естественно, не полное) событий, действительно имевших место в истории, причём порядок изложения этих событий, по крайней мере, в общих чертах совпадает с реальным историческим порядком самих событий.
2) Эмпирический мир, исследуемый наукой, есть Божие творение. Он несёт на себе как бы «отпечаток» своего Творца и, следовательно, должен рассматриваться как одна из форм Откровения, данного нам Богом. Перед христианской наукой стоит задача согласования библейского повествования с современными научными данными.
3) Бог сотворил из ничего (creatio ex nihilo) лишь самые начальные и очень простые формы материи, а всё остальное Он творил «из чего-то», что уже было сотворено до этого (creatio ex aliquo). В частности, почти все таксоны живых организмов были сотворены Богом из других таксонов, сотворённых раньше. Этот процесс (один и тот же!) описывается натуралистами как эволюция и богословами как Творение.
4) Этот процесс Творения-эволюции был очень медленным. Время, прошедшее от начала мира до сотворения человека, было во много раз более долгим, чем вся последующая история человечества. Так что «дни» Творения, о которых повествует Шестоднев, не являются астрономическими сутками, но должны интерпретироваться как интервалы времени неопределённой (и, возможно, различной) продолжительности.
5) Смерть животных и растений существовала на Земле до появления человека и, следовательно, до грехопадения. Она была совершенно естественным феноменом и не должна рассматриваться как проявление несовершенства мира, сотворённого Богом.
Последний тезис нуждается, вероятно, в более подробном рассмотрении, т. к. именно он является в настоящее время предметом наиболее оживлённой дискуссии между христианскими эволюционистами, креационистами и альтеристами. Вся палеонтологическая летопись свидетельствует о том, что живые организмы (как растения, так и животные) умирали на всём протяжении земной истории, т. е. смерть как биологическое явление возникла на Земле задолго до грехопадения первых людей. По существу сама эта летопись представляет собой ничто иное, как собрание остатков умерших организмов, упорядоченных во времени.
Рыба Mioplosus, погибшая и захоронившаяся в момент заглатывания другой рыбы. Отложения эоценовой эпохи (~50 млн. лет назад), США

Массовое захоронение двустворчатых моллюсков. Отложения позднепермской эпохи (~255 млн. лет назад), Вологодская обл.

Массовое захоронение тероморф Haptodus bayle. Отложения раннепермской эпохи (~295 млн. лет назад), Германия [114]

Вместе с тем из Быт 2:16–17, 3:3 можно заключить, что первые люди были созданы Богом бессмертными. Это бессмертие было, таким образом, одним из аспектов, отличавших человека от всей остальной твари. Только человек был создан «по образу и подобию Божию» (Быт 1:27), только он был подобен бессмертному и вечному Богу в отношении бессмертия и вечности. «Бог создал человека для нетления и соделал его образом вечного бытия Своего; но завистию диавола вошла в мир смерть, и испытывают её принадлежащие к уделу его» (Прем 2:23–24).
С этими словами из книги Премудрости Соломона явно перекликаются слова св. апостола Павла: «…Одним человеком грех вошёл в мир, и грехом смерть…» (Рим 5:12), которые часто цитируют для доказательства того, что смерть появилась на Земле лишь в результате грехопадения первых людей. Однако, если рассматривать эту фразу в контексте (от начала цитируемого 12-го стиха до конца 5-ой главы Послания к Римлянам), то станет ясно, что речь в ней (а также, очевидно, и в Прем 2:24) идёт вовсе не о природном физическом мире, а о мире только человеческом, о мире как синониме слова «человечество», о том мире, который в качестве ответа на вопрос «где?» образует форму «в миру», а не «в мире» (ср. аналогичное употребление слова «мир» в Мф 5:14, 13:38, 18:7, Ин 6:33, 12:19, 14:31, 15:19, 16:20, 17:21, 18:20). Таким образом, цитирование Рим 5:12 в связи с темой смертности живых организмов есть неправильное истолкование слов св. апостола Павла, который в данном пассаже имел в виду смерть одних только людей, а не животных. Аналогично лишь о смерти людей говорится в другом часто цитируемом стихе из книги Премудрости Соломона: «Бог не сотворил смерти и не радуется погибели живущих» (Прем 1:13). Смертность животных и растений, обуславливавшая смену поколений и тем самым – процесс развития (замену старого новым), была совершенно естественным атрибутом «хорошего весьма» Божьего мира и так же, как все остальные его атрибуты, должна рассматриваться как благо. Нам трудно понять это, потому что в лице своих прародителей мы вкусили плодов от дерева познания добра и зла, в результате чего у нас сформировались свои собственные (отличные от божественных) представления о том, «что такое “хорошо” и что такое “плохо”», и мир, прекрасный в глазах Бога (Быт 1:31), стал казаться нам ужасным. Тем не менее, именно такое видение смерти животных оказывается единственно возможным при попытке согласования данных палеонтологической летописи с текстом книги Бытия.
При пересказах концепции христианского эволюционизма часто [см., например, 80; 90, 115] прибегают к выражениям его сути такого типа: «Бог воспользовался эволюцией, для того чтобы сотворить мир» или «Эволюция есть инструмент Творения». Эти выражения, однако, не вполне адекватны. Когда я говорю, например, что воспользовался молотком, для того чтобы забить гвоздь в стену, то при этом подразумевается, что молоток существовал до и независимо от моего намерения забить гвоздь. Ясно, что ничего подобного относительно Бога и эволюции сказать нельзя. Поэтому сущность христианского эволюционизма правильнее было бы сформулировать следующим образом: Богу было угодно, чтобы процесс творения имел форму эволюции (т. е. был медленным и необратимым creatio ex aliquo).
Как уже отмечалось выше, идея о возможности согласовать библейское описание творения мира и эволюционистские сценарии истории Земли возникла ещё в XIX в., почти сразу после распространения теории Дарвина. В начале XX в. глубокая теория, синтезирующая христианские представления о Творении с эволюционным учением, была разработана французским священником-иезуитом и палеонтологом П. Тейяром де Шарденом [91; 92]. Последователем Тейяра де Шардена был известный биолог-эволюционист (и одновременно православный христианин), один из создателей так называемой синтетической теории эволюции Ф. Добжанский. Попытка согласовать Шестоднев с данными палеонтологии, имевшимися к концу 40-ых годов XX в., была предпринята священником РПЦЗ протоиереем Стефаном Ляшевским [60]. На Западе интеллектуальная традиция христианского эволюционизма, не прерываясь, продолжается до настоящего времени (Д. Хаарсма [98] называет её «интерпретация “День-эпоха”», а Л. Хаарсма [99] описывает под названиями «прогрессивный креационизм» и «эволюционный креационизм»). Однако, если судить по литературе, доступной в России, сейчас западные богословы и философы очень редко пишут произведения, выдержанные в духе христианского эволюционизма, исповедуя, в основном, фабулизм или креационизм.
В России начало реализации программы по согласованию Шестоднева и данных естественной истории может быть возведено к работе Н. Н. Фиолетова «Очерки христианской апологетики» [96], созданной в 30-ых – 40-ых годах XX в. и распространявшейся в самиздате. Позже эта апологетическая традиция была продолжена и развита митрополитом Ярославским Иоанном (Вендландом) [44], геологом по образованию и протоиереем Николаем Ивановым [59]. В течение всего советского периода в России жили и работали православные учёные-естествоиспытатели, которые стремились осмыслить, с одной стороны, свою профессиональную деятельность в свете православной веры, а с другой стороны, – Откровение в свете последних данных своей науки. Одним из наиболее ярких представителей этого направления мысли был протоиерей Глеб Каледа (1931 – 1994) – профессор геологии, тайно принявший священный сан в 1972 г., а с 1991 г. – заместитель председателя Отдела религиозного образования и катехизации Московской Патриархии. Идеи, развивавшиеся о. Глебом и его единомышленниками, конечно, не могли быть опубликованы в СССР, но многие из них (в том числе и основной труд о. Глеба «Библия и наука о сотворении мира») нашли выражение в сборнике статей «Той повеле, и создашася», изданном в 1999 г. [93], и продолжают публиковаться вплоть до настоящего времени [16; 19; 58; 82].
Хотя все христианские эволюционисты признают, что эволюция живых организмов есть факт, доказанный наукой, однако в качестве наилучшего соответствия христианскому мировоззрению могут рассматриваться различные эволюционные теории. Так, вслед за Фиолетовым [95] и благодаря традиционной связи дарвинизма с коммунистической идеологией большинство христианских эволюционистов принимают в качестве основы своего дискурса теорию номогенеза, предложенную Л. С. Бергом в 1922 г. [4] (Берг считал, что эволюция протекает на основе жёстких закономерностей, и тем самым противопоставлял свою теорию дарвинизму, рассматривающему эволюцию как случайный процесс). Однако в рамках православного эволюционизма также существуют представления [16], согласно которым христианской идее Творения лучше всего соответствует синтетическая теория эволюции (неодарвинизм).
В настоящее время достигнуто, в общем, хорошее согласование обоих (библейского и научного) описаний истории мира [16], хотя имеется всё же ряд противоречий.
Шестой «день» Творения. Органический мир миоценовой эпохи (~15 млн. лет назад). Реконструкция З. Буриана (1940) [3]

Пятый «день» Творения. Органический мир силурийского периода (~430 млн. лет назад). Реконструкция М. Хаттори (2016) [masahatto2.p2.bindsite.jp/pg154.html; дата обращения 19.03.19]

Конец третьего «дня» Творения. Ландшафт архейского акрона (~3 млрд. лет назад). На переднем плане – строматолиты (постройки циано-бактериальных сообществ). Реконструкция М. А. Пэрриш (2008)

Так, с научной точки зрения кажется невозможным существование зелёных растений при отсутствии Солнца (ср. Быт 1:11–19). Птицы, созданные в течение пятого «дня» Творения (Быт 1:20–23), согласно палеонтологическим данным появились на Земле заведомо позже, чем «гады земные» (Быт 1:24–25), как бы мы ни интерпретировали «птиц» и «гадов». Но подобные противоречия рассматриваются христианскими эволюционистами как несущественные. Они не могут быть основанием для отвержения одного из описаний как неистинного, но служат для нас стимулом для более глубокого изучения как Природы, так и Священного Писания.
Примечания
{1} Вероятно, самое значительное сочинение по «патрологическому» креационизму, опубликованное в последнее время, книга протоиерея Константина Буфеева «Православное учение о сотворении и теория эволюции» имеет следующее посвящение: «Посвящается иеромонаху Серафиму (Роузу), который превзошёл всех богословов XX века в способности выразить святоотеческое учение о Начале и Конце. Духовная эстафета, начатая отцом Серафимом как учителем, миссионером и просветителем, по его святым молитвам, продолжается в нашем скромном труде» [57, стр. 2].
Окончание следует
Иеромонаха Серафима (Роуза) можно назвать в качестве первого и наиболее типичного представителя этого направления, чьи труды оказали и продолжают оказывать решающее формирующее влияние на всю последующую литературу по «патрологическому» креационизму{1}. Аргументация о. Серафима сводится по существу к следующему утверждению: эволюции не было, потому что её существование отрицалось святыми отцами. «Мы не должны, – пишет он [50, стр. 10], – спешить предлагать наши собственные объяснения “трудных” мест <Священного Писания – А. Г.>, но должны сперва попытаться ближе ознакомиться с тем, что святые Отцы говорили об этих местах, сознавая, что они имеют духовную мудрость, которой мы лишены». Следует, однако, помнить, что большинство святых отцов жило задолго до того времени, когда идея эволюции стала предметом христианской мысли. Поэтому те места из их творений, которые могут быть привлечены для толкования Священного Писания в связи с темой эволюции, могут оказаться ещё более трудными для понимания, чем те «трудные» места Библии, которые о. Серафим собирается с их помощью толковать. Святоотеческие тексты, таким образом, сами нуждаются в толковании, которое может быть, вообще говоря, совсем не однозначным (см. выше, раздел 2). «Патрологические» креационисты полностью игнорируют этот факт. Так, о. Серафим сам приводит цитаты из свт. Афанасия Великого и свт. Григория Нисского, которые указывают на существование эволюции. Говоря о том, что под сотворением «из праха земного» можно понимать вполне «естественный» процесс рождения, присущий всем живым организмам, свт. Афанасий пишет: «Первозданный человек был сотворён из праха, как и любой другой; и рука, создавшая тогда Адама, творит и всех тех, кто приходит после него» [50, стр. 10]. Святитель же Григорий Нисский в сочинении «Об устроении человека» прямо указывает, что «…природа как бы из ступенек, то есть из отличительных признаков жизни, делает путь восхождения от самого малого к совершенному» [50, стр. 32]. О. Серафим, однако перетолковывает эти слова святых отцов, пользуясь другими цитатами, вроде бы свидетельствующими против существования эволюции. Если, однако, такое толкование считается возможным, то почему невозможно толкование «в другую сторону», т. е. перетолковывание цитат второй группы на основе цитат первой группы? Ответ на этот вопрос невозможно найти в работах «патрологических» креациостов. Тем не менее, они претендуют на то, что являются единственными носителями православной традиции («наследия святых отцов»), и отказывают сторонникам иных взглядов в праве называться православными христианами вплоть до отлучения их от Церкви [57; 104].
В отношении науки (которая, как известно, доказывает свои положения) «патрологические» креационисты исповедуют теорию, близкую к «теории омфалоса», предложенной английским натуралистом Ф. Г. Госсе в 1857 г. Протоиерей Константин Буфеев называет её «теорией снежка» [104]. Представим себе, – говорит он, – мальчика, который бросает снежок. Наблюдая какой-либо фрагмент траектории этого снежка, мы можем путём расчётов, основанных на законах механики, экстраполировать её как угодно далеко назад. Но на самом деле в определённой точке этой вычисленной траектории стоит мальчик, который и является подлинной причиной рассматриваемого движения. Поэтому реальная история снежка до этой точки будет совсем другой, чем та, которую мы рассчитали на основании наблюдаемого фрагмента его траектории. То же самое можно сказать об истории всего мира. В определённой точке этой истории имел место акт Творения, и это обстоятельство делает некорректными все научные реконструкции далёкого прошлого. Например, если мы наблюдаем галактику, отстоящую от нас на 10 млрд. световых лет, то это не значит, что она возникла 10 миллиардов лет назад. Бог создал её лишь 7 500 лет назад, но при этом заполнил всё пространство между ней и нами светом, который, как кажется, исходит от неё, но в действительности по своему происхождению не имеет с ней ничего общего.
Следствием этой теории является вера в то, что мир лжив и создаёт иллюзии в умах людей, которые его изучают. Конечно, такую веру трудно совместить со свидетельством Шестоднева о том, что мир, созданный Богом, был «хорош весьма» (Быт 1:31). Вероятно, в силу этого бóльшую популярность среди креационистов получила модификация «теории снежка», предложенная генетиком А. И. Ивановым [устное сообщение], который переносит «точку лживости» (т. е. ту точку, за которой любые исторические реконструкции становятся неверными) с момента творения на момент грехопадения. Именно в момент грехопадения первых людей, согласно Иванову, в природе мгновенно и чудесным образом возникли все те феномены, которые ныне рассматриваются как следы длительной эволюции Земли и всей Вселенной в целом. Так, например, динозавры никогда не существовали на Земле в качестве живых организмов, а их кости возникли в земной коре (мгновенно и из ничего) при грехопадении сразу в виде окаменелостей. Хотя такой концепции нельзя отказать в логичности, она по существу отрицает ценность всякого научного исследования, что противоречит церковному учению о «естественном» Откровении (см. раздел 1).
3.2.2. «Научный» креационизм
В отличие от «патрологических», «научные» креационисты стараются доказать отсутствие эволюции средствами самой же науки [6; 11; 15; 38; 62; 79; 85; 86]. Однако с действительно научной точки зрения их аргументация выглядит абсолютно безграмотной и предвзятой и может быть квалифицирована как идеологически окрашенная лженаука [18].
По-видимому, основное доказательство существования эволюции (так называемое «палеонтологическое» доказательство) заключается в существовании стратисферы – внешней оболочки земной коры, сложенной слоистыми осадочными горными породами, где от слоя к слою наблюдается изменение содержащихся в них остатков живых организмов. Этот факт (а точнее, множество фактов, ибо одинаковые последовательности палеонтологических остатков повторяются в разных точках стратисферы) вместе с данными абсолютной геохронологии о весьма значительном возрасте Земли однозначно свидетельствует о том, что органический мир нашей планеты на протяжении её истории не оставался неизменным, а постепенно и необратимо изменялся, т. е. эволюционировал.
В целях объяснения данного феномена креационисты утверждают, что вся или почти вся стратисфера образовалась в результате Всемирного Потопа, описанного в 6-ой – 8-ой главах книги Бытия. Однако внутренняя структура стратисферы противоречит такому объяснению. Исследования этой толщи осадочных горных пород показывают, что бóльшая её часть действительно формировалась в водоёмах, но образовалась в результате размыва суши текучими водами. Таким образом, если Потоп был действительно Всемирным, то в геологической летописи могла отразиться только начальная его стадия, когда ещё не вся суша была залита его водами. Эта толща осадочных горных пород должна была бы нести следы монотонного углубления того бассейна, на дне которого она накапливалась. Некоторые серии слоёв, наблюдаемые в стратисфере, действительно демонстрируют такие признаки углубления водоёма, где шло их образование. Однако, наряду с ними встречаются и такие серии, которые свидетельствуют об обмелении бассейна осадконакопления вплоть до полного его пересыхания. Нередко внутри стратисферы встречаются коры выветривания (т. е. слои, которые в результате высыхания водоёма оказались на поверхности суши, подверглись выветриванию, а затем снова были залиты водой и погребены под новыми порциями осадков) и даже почвенные горизонты, пронизанные корнями наземных растений [см., например, 32]. Наблюдения за динамикой современной растительности показывают, что образование таких горизонтов занимает, по крайней мере, несколько лет, т. е. вся стратисфера никак не могла образоваться в течение тех нескольких месяцев, которые занимала первая начальная фаза Всемирного Потопа.
Трещины усыхания на поверхности слоя осадочной горной породы, образовавшиеся при высыхании влажного осадка в воздушной среде. Отложения позднепермской эпохи (~265 млн. лет назад), Оренбургская обл.

Отпечатки корней высших растений в отложениях позднепермской эпохи
(~265 млн. лет назад). Удмуртия

Но главное, «потопная теория» креационистов никак не объясняет того факта, который выше был назван палеонтологическим доказательством эволюции: наблюдаемых во многих частях стратисферы устойчивых последовательностей органических остатков. Почему, например, аммониты всегда встречаются в стратисфере выше, чем эндоцератиды, дельфины – выше, чем ихтиозавры, а индрикотерии – выше, чем диплодоки? Ведь если все эти животные жили одновременно и одновременно погибали в ходе Всемирного Потопа, то они и захороняться должны были бы вместе, в одних и тех же слоях «потопной» толщи!
Интерпретация всей стратисферы (или, по крайней мере, большей её части) как отложений Всемирного Потопа не нова – она господствовала в геологии ещё в XVIII в. [29; 30]. При этом все организмы, остатки которых встречались в ископаемом состоянии, но которые не известны в настоящее время, считались погибшими во время Потопа и назывались «допотопными». Однако в дальнейшем в результате изучения стратисферы была выявлена её «стратифицированность», т. е. расчленённость на слои, каждый из которых содержал свой уникальный комплекс ископаемых организмов. Этот феномен никак не укладывался в «потопную теорию», и для его объяснения учёным пришлось допустить, что в прошлом произошёл не один Всемирный Потоп, а несколько и после каждого из них (кроме последнего) Бог создавал органический мир Земли заново. «Отец палеонтологии» Ж. Кювье (1769 – 1832) допускал 3 таких акта творения, но уже его ближайший последователь А. д’Орбиньи (1802 – 1857) был вынужден признавать 27 таких актов, а Л. Агассиц (1807 – 1873) – 80! Кроме того, стало выясняться, что наблюдаемые этапы не абсолютно обособлены друг от друга, а демонстрируют некоторую преемственность в составе органических остатков. Всё это привело «потопную теорию» (называемую также теорией катастроф или катастрофизмом) к окончательному крушению. Стало понятно, что история Земли состоит из относительно «спокойных» периодов, разделённых относительно же резкими перестройками, различными по своей значимости и пространственному распространению, да к тому же происходящими не одновременно в разных частях земного шара. Эти общие представления по сей день господствуют в исторической геологии, а «научные» креационисты пытаются вернуть нас к представлениям XVIII в., которые были опровергнуты логикой развития самой же науки.
3.3. Альтеризм
Под термином «альтеризм» (от лат. “alter” – «иной», «другой») объединяется множество взглядов, группирующихся вокруг книги епископа Василия (Родзянко) «Теория распада Вселенной и вера Отцов» [27], в основу которой был положен курс лекций, прочитанных Владыкой в Московской Духовной Академии в 1994 г. Центральная идея альтеризма в её «классическом» выражении может быть сформулирована следующим образом. Наука, конечно, правá в своём отстаивании существования эволюции. Эволюция действительно имела место в истории Земли. Но этот процесс не имеет ничего общего с процессом Творения, описанным в двух первых главах книги Бытия. Большой взрыв, рассматриваемый учёными как начало мира, должен идентифицироваться не с началом Творения (Быт 1:1), а с моментом грехопадения первых людей (Быт 3:6–24). До этого события существовал другой (отсюда и название концепции), «райский» мир, а грехопадение явилось причиной его крушения и возникновения нового мира – того, который ныне и исследуется наукой.
Вера в некий «идеальный» мир, якобы описанный в книге Бытия и отличный от того «материального» мира, в котором мы живём, сближает альтеризм с фабулизмом, но по сравнению с фабулизмом альтеризм придаёт этому «идеальному» миру гораздо бόльшую реальность, приписывая ему действительное существование в истории. С другой стороны, альтеризм близок к креационистской теории «снежка» (особенно в интерпретации А. И. Иванова), изложенной выше, признавая существование прошлого, недоступного для исторических наук, но отличается от неё тем, что отодвигает это «непознаваемое время» на значительно большее расстояние от наших дней. Креационизм допускает научное исследование лишь для последних 7 500 лет, тогда как альтеризм распространяет этот период до 15 миллиардов лет.
Происхождение альтеристских идей может быть связано с такими работами русских религиозных философов начала XX в. как «Философия свободы» Н. А. Бердяева [5] и «Смысл жизни» Е. Н. Трубецкого [95]. Однако полное развитие и распространение эта концепция получила лишь в конце XX в. благодаря упомянутой книге владыки Василия. Созвучна ей и книга священника Сергия Соколова «Мир иной и время Вселенной» [84], хотя из словесной эквилибристики о. Сергия очень трудно понять, признаёт ли он историческую реальность «райского мира», и, соответственно, к какому из двух типов толкований Шестоднева – альтеризму или фабулизму – следует относить его концепцию. Как явствует из предисловия к книге о. Сергия, её автор и вл. Василий создавали свои труды одновременно и независимо друг от друга, но пришли к очень сходным результатам. После того, как они познакомились с идеями друг друга, было решено объединить обе книги в одну, однако смерть вл. Василия помешала осуществлению этого проекта. В дальнейшем идеи альтеризма развивались рядом православных авторов [46; 101].
Поскольку, как отмечалось выше, альтеризм в своём «классическом» выражении не противоречит науке и декларирует свое полное согласие со всеми данными естествознания, касающимися истории Вселенной, Земли и жизни на ней, то несостоятельность его не может быть продемонстрирована естественнонаучными методами. Тотальная ошибочность этой концепции имеет философский характер. Удвоение мира, осуществляемое альтеристами, естественно порождает трудно разрешимый вопрос об отношении этих двух рассматриваемых миров друг к другу. Как связаны друг с другом феномены, принадлежащие разным мирам, но называемые одними и теми же словами («небо», «земля», «вода», «свет», «море», «суша», «трава», «деревья», «звёзды», «рыбы», «птицы», «звери» и т. д.)? Если никак, то почему они одинаково называются? А если как-то связаны, то как при этом сохраняется абсолютная изолированность обоих миров друг от друга, вытекающая из смысла самогó выражения «два мира»?
Если рассмотреть какой-нибудь предмет, о сотворении которого говорится в 1-ой главе книги Бытия, например, Луну, то из текста Священного Писания (Быт 1:14–18) можно понять, что Луна была сотворена на четвертый «день» и после этого продолжала существовать, по крайней мере, до момента грехопадения. С другой стороны, как свидетельствуют данные физики, мир в момент Большого взрыва был совсем иным, чем тот мир, творение которого, согласно книге Бытия, Бог завершил к седьмому «дню» (Быт 1:31 – 2:2). Он был представлен так называемым «физическим вакуумом», и в нём заведомо не было ни Солнца, ни других звёзд, ни Земли, ни Луны, не говоря уже о таких чисто «земных» феноменах как суша, море, растения или животные. Луна же, по данным космогонии, возникла спустя, по крайней мере, 10 миллиардов лет после Большого взрыва. Таким образом, встав на точку зрения еп. Василия и отождествляя грехопадение с Большим взрывом, мы должны признать, что Луна сначала существовала в течение 5-го и 6-го «дней» творения, затем в момент грехопадения она исчезла и не существовала в течение 10 млрд. лет, а затем (та же самая Луна!) вновь возникла и с тех пор продолжает существовать до настоящего времени. Подобную «историю» можно ещё допустить для человека с самотождественностью, определяемой его нематериальной душой, которая может, в принципе, существовать и где-то вне пределов материального мира, но невозможно допустить для объекта чисто материального (каковым является Луна), который по всем философским нормам должен обладать пространственно-временной связностью.
Космологическая теория Большого взрыва показывает, что наш мир, мир, в котором мы живём, действительно возник из ничего и в силу этого действительно является «миром» в самом основном смысле этого слова (замкнутой системой) и со своим «вполне законным» возникновением. Если, соглашаясь с этой теорией, в то же время допускать существование какого-то «другого», райского мира (как это делает еп. Василий), то из такой концепции неизбежно следует, что между обоими «мирами» нет ничего общего. И тогда возникает поистине роковой для любой альтеристской теории вопрос (одновременно онтологический и гносеологический): если мир, существовавший до грехопадения, не имеет ничего общего с тем миром, в котором мы живём сейчас, то почему же в книге Бытия он описывается в терминах нашего мира? Почему боговдохновенный автор книги Бытия ничего не сказал нам о происхождении того, что нас окружает (нашей Земли, нашего Солнца и т. д.), но зачем-то весьма подробно описал возникновение какого-то совсем другого мира, не имеющего к нам ни малейшего отношения? Да еще сделал это с помощью слов, которыми обычно описываются феномены, хорошо знакомые нам по нашему миру, так что получившееся в итоге повествование трудно квалифицировать иначе, чем сознательный обман современников (а именно для них в первую очередь и писалась книга Бытия [22]), а также многих поколений последующих наивных читателей, не знакомых с теорией Большого взрыва. Когда в Символе Веры Бог Отец исповедуется «Творцом неба и земли, видимым же всем и невидимым» или в книге Бытия говорится: «Вот происхождение неба и земли, при сотворении их, в то время, когда Господь Бог создал землю и небо, и всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла...» (Быт 2:4), то надо, кажется, обладать поистине извращённым сознанием, чтобы думать, будто речь здесь идёт совсем не о той земле, по которой мы ходим ногами, и не о том небе, которое видим у себя над головой.
Этот вопрос можно перевести и на гносеологический язык. Если феномены «того» мира имеют что-либо общее с феноменами «этого» мира, то они в силу этого доступны для изучения, хотя бы и частичного. В исторических науках (космологии, исторической геологии, палеонтологии, археологии, истории, криминалистике) разработаны специальные методы такого частичного познания, позволяющие строить (естественно, не полные) исторические реконструкции [см., например, 41]. При этом учитывается, что многое из того, что мы наблюдаем сейчас, может изменяться, если мы будем двигаться вспять по оси времени, но если хоть что-нибудь сохраняется, то этого уже достаточно для построения хоть каких-то моделей прошлого. Так вот, применение этих методов к нашему миру ничего кроме обычной эволюционной картины, поставляемой теорией Большого взрыва и палеонтологией, не даёт. Следовательно, если какой-нибудь «иной» мир и существовал бы до нашего или «параллельно» с нашим, то он был бы абсолютно для нас непознаваем и, следовательно, неописуем на каком бы то ни было человеческом языке.
О тождестве одноимённых феноменов, существовавших до и после грехопадения, говорит и само Священное Писание, например, в следующих словах: «И выслал его <Адама> Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят» (Быт 3:23). Адам был создан, очевидно, из той «земли», которая существовала в «райском» мире. И эту же самую «землю» он должен был возделывать после своего изгнания из рая.
Попытки преодоления описанных трудностей философского характера, с которыми сталкивается концепция владыки Василия, породили разновидность альтеризма [И. Ю. Бугрова, устное сообщение], которую можно назвать «теорией низвержения». Согласно этой теории от момента грехопадения до момента изгнания первых людей из рая прошло некоторое время, в течение которого Бог последовательно «низвергал» отдельные феномены из «райского» (1-го) мира в «падший» (2-ой), чем, собственно, и обусловлено их последовательное появление в нашем 2-ом мире, т. е. его эволюция. Тождество феноменов, принадлежащих разным мирам, обуславливается синхронностью событий их исчезновения из 1-го мира и появления во 2-ом мире. Тем самым обеспечивается временнáя непрерывность материальных объектов, которой требует философия для корректного рассуждения о них. Однако эта «теория низвержения» не выдерживает критики перед лицом фактов естественной истории. Дело в том, что многие «более поздние» (как по книге Бытия, так и по геологической летописи) феномены не могут существовать без «более ранних». Например, Земля как планета возникла в нашем (2-ом) мире (т. е. перестала существовать в 1-ом мире) примерно 4,6 млрд. лет назад, а «скоты и звери» (млекопитающие животные) – только 230 млн. лет назад. Спрашивается: в каком месте 1-го мира они существовали в течение всего срока, разделяющего две эти даты (~4,4 млрд. лет)? В открытом космосе? Но они не могли там существовать и одного мгновения (даже если допустить, что время в 1-ом и во 2-ом мирах шло с разной скоростью, теория «низвержения» всё равно требует, чтобы сам этот процесс «низвержения» продолжался в течение какого-то ненулевого по своей продолжительности временнóго интервала)!
Дальнейшая попытка усовершенствования альтеризма, которую можно назвать «теорией частичного низвержения», была предпринята Н. И. Никоновым [46]. Этот автор совмещает момент грехопадения не с Большим взрывом, а с возникновением Земли как планеты (событием, произошедшим 4,6 млрд. лет назад), допуская, таким образом, некоторую общность между 1-ым и 2-ым миром, что позволяет ему говорить о «низвержении» не всех феноменов 1-го мира, а лишь некоторых. Сам он фактически говорит о «низвержении» только животных и человека, оставляя читателя в полном неведении (и недоумении) об истории таких феноменов как, например, океаны и континенты или растения. Впрочем, даже такая модификация теории «низвержения» не спасает её от тех возражений, которые выдвигает против неё геологическая летопись, ибо на 10-ом миллиарде лет существования Вселенной Земля была не намного более пригодна для жизни, чем кварковая плазма в первую миллионную долю секунды после Большого взрыва. Первые полмиллиарда лет после возникновения Земли её поверхность была покрыта раскаленным магматическим «океаном», температура которого составляла больше 1 0000С, на ней совсем не было жидкой воды, а в атмосфере почти совсем не было свободного кислорода. Пригодной для существования теплокровных млекопитающих животных земная атмосфера стала лишь около 250 млн. лет назад. Соответственно, вопрос о том, где существовали «скоты и звери» (не говоря уже о человеке) с момента грехопадения до момента их появления во 2-ом мире, остаётся по-прежнему неразрешимым и в рамках «теории частичного низвержения». Таким образом, альтеризм, даже преобразованный в «теорию частичного низвержения», продолжает быть несостоятельным перед лицом фактов, добытых естествознанием.
3.4. Христианский эволюционизм
Общая концепция православного эволюционизма может быть выражена в следующих тезисах, отличающих его от фабулизма, креационизма и альтеризма.
1) Шестоднев написан в жанре исторической хроники. Он содержит описание (естественно, не полное) событий, действительно имевших место в истории, причём порядок изложения этих событий, по крайней мере, в общих чертах совпадает с реальным историческим порядком самих событий.
2) Эмпирический мир, исследуемый наукой, есть Божие творение. Он несёт на себе как бы «отпечаток» своего Творца и, следовательно, должен рассматриваться как одна из форм Откровения, данного нам Богом. Перед христианской наукой стоит задача согласования библейского повествования с современными научными данными.
3) Бог сотворил из ничего (creatio ex nihilo) лишь самые начальные и очень простые формы материи, а всё остальное Он творил «из чего-то», что уже было сотворено до этого (creatio ex aliquo). В частности, почти все таксоны живых организмов были сотворены Богом из других таксонов, сотворённых раньше. Этот процесс (один и тот же!) описывается натуралистами как эволюция и богословами как Творение.
4) Этот процесс Творения-эволюции был очень медленным. Время, прошедшее от начала мира до сотворения человека, было во много раз более долгим, чем вся последующая история человечества. Так что «дни» Творения, о которых повествует Шестоднев, не являются астрономическими сутками, но должны интерпретироваться как интервалы времени неопределённой (и, возможно, различной) продолжительности.
5) Смерть животных и растений существовала на Земле до появления человека и, следовательно, до грехопадения. Она была совершенно естественным феноменом и не должна рассматриваться как проявление несовершенства мира, сотворённого Богом.
Последний тезис нуждается, вероятно, в более подробном рассмотрении, т. к. именно он является в настоящее время предметом наиболее оживлённой дискуссии между христианскими эволюционистами, креационистами и альтеристами. Вся палеонтологическая летопись свидетельствует о том, что живые организмы (как растения, так и животные) умирали на всём протяжении земной истории, т. е. смерть как биологическое явление возникла на Земле задолго до грехопадения первых людей. По существу сама эта летопись представляет собой ничто иное, как собрание остатков умерших организмов, упорядоченных во времени.
Рыба Mioplosus, погибшая и захоронившаяся в момент заглатывания другой рыбы. Отложения эоценовой эпохи (~50 млн. лет назад), США

Массовое захоронение двустворчатых моллюсков. Отложения позднепермской эпохи (~255 млн. лет назад), Вологодская обл.

Массовое захоронение тероморф Haptodus bayle. Отложения раннепермской эпохи (~295 млн. лет назад), Германия [114]

Вместе с тем из Быт 2:16–17, 3:3 можно заключить, что первые люди были созданы Богом бессмертными. Это бессмертие было, таким образом, одним из аспектов, отличавших человека от всей остальной твари. Только человек был создан «по образу и подобию Божию» (Быт 1:27), только он был подобен бессмертному и вечному Богу в отношении бессмертия и вечности. «Бог создал человека для нетления и соделал его образом вечного бытия Своего; но завистию диавола вошла в мир смерть, и испытывают её принадлежащие к уделу его» (Прем 2:23–24).
С этими словами из книги Премудрости Соломона явно перекликаются слова св. апостола Павла: «…Одним человеком грех вошёл в мир, и грехом смерть…» (Рим 5:12), которые часто цитируют для доказательства того, что смерть появилась на Земле лишь в результате грехопадения первых людей. Однако, если рассматривать эту фразу в контексте (от начала цитируемого 12-го стиха до конца 5-ой главы Послания к Римлянам), то станет ясно, что речь в ней (а также, очевидно, и в Прем 2:24) идёт вовсе не о природном физическом мире, а о мире только человеческом, о мире как синониме слова «человечество», о том мире, который в качестве ответа на вопрос «где?» образует форму «в миру», а не «в мире» (ср. аналогичное употребление слова «мир» в Мф 5:14, 13:38, 18:7, Ин 6:33, 12:19, 14:31, 15:19, 16:20, 17:21, 18:20). Таким образом, цитирование Рим 5:12 в связи с темой смертности живых организмов есть неправильное истолкование слов св. апостола Павла, который в данном пассаже имел в виду смерть одних только людей, а не животных. Аналогично лишь о смерти людей говорится в другом часто цитируемом стихе из книги Премудрости Соломона: «Бог не сотворил смерти и не радуется погибели живущих» (Прем 1:13). Смертность животных и растений, обуславливавшая смену поколений и тем самым – процесс развития (замену старого новым), была совершенно естественным атрибутом «хорошего весьма» Божьего мира и так же, как все остальные его атрибуты, должна рассматриваться как благо. Нам трудно понять это, потому что в лице своих прародителей мы вкусили плодов от дерева познания добра и зла, в результате чего у нас сформировались свои собственные (отличные от божественных) представления о том, «что такое “хорошо” и что такое “плохо”», и мир, прекрасный в глазах Бога (Быт 1:31), стал казаться нам ужасным. Тем не менее, именно такое видение смерти животных оказывается единственно возможным при попытке согласования данных палеонтологической летописи с текстом книги Бытия.
При пересказах концепции христианского эволюционизма часто [см., например, 80; 90, 115] прибегают к выражениям его сути такого типа: «Бог воспользовался эволюцией, для того чтобы сотворить мир» или «Эволюция есть инструмент Творения». Эти выражения, однако, не вполне адекватны. Когда я говорю, например, что воспользовался молотком, для того чтобы забить гвоздь в стену, то при этом подразумевается, что молоток существовал до и независимо от моего намерения забить гвоздь. Ясно, что ничего подобного относительно Бога и эволюции сказать нельзя. Поэтому сущность христианского эволюционизма правильнее было бы сформулировать следующим образом: Богу было угодно, чтобы процесс творения имел форму эволюции (т. е. был медленным и необратимым creatio ex aliquo).
Как уже отмечалось выше, идея о возможности согласовать библейское описание творения мира и эволюционистские сценарии истории Земли возникла ещё в XIX в., почти сразу после распространения теории Дарвина. В начале XX в. глубокая теория, синтезирующая христианские представления о Творении с эволюционным учением, была разработана французским священником-иезуитом и палеонтологом П. Тейяром де Шарденом [91; 92]. Последователем Тейяра де Шардена был известный биолог-эволюционист (и одновременно православный христианин), один из создателей так называемой синтетической теории эволюции Ф. Добжанский. Попытка согласовать Шестоднев с данными палеонтологии, имевшимися к концу 40-ых годов XX в., была предпринята священником РПЦЗ протоиереем Стефаном Ляшевским [60]. На Западе интеллектуальная традиция христианского эволюционизма, не прерываясь, продолжается до настоящего времени (Д. Хаарсма [98] называет её «интерпретация “День-эпоха”», а Л. Хаарсма [99] описывает под названиями «прогрессивный креационизм» и «эволюционный креационизм»). Однако, если судить по литературе, доступной в России, сейчас западные богословы и философы очень редко пишут произведения, выдержанные в духе христианского эволюционизма, исповедуя, в основном, фабулизм или креационизм.
В России начало реализации программы по согласованию Шестоднева и данных естественной истории может быть возведено к работе Н. Н. Фиолетова «Очерки христианской апологетики» [96], созданной в 30-ых – 40-ых годах XX в. и распространявшейся в самиздате. Позже эта апологетическая традиция была продолжена и развита митрополитом Ярославским Иоанном (Вендландом) [44], геологом по образованию и протоиереем Николаем Ивановым [59]. В течение всего советского периода в России жили и работали православные учёные-естествоиспытатели, которые стремились осмыслить, с одной стороны, свою профессиональную деятельность в свете православной веры, а с другой стороны, – Откровение в свете последних данных своей науки. Одним из наиболее ярких представителей этого направления мысли был протоиерей Глеб Каледа (1931 – 1994) – профессор геологии, тайно принявший священный сан в 1972 г., а с 1991 г. – заместитель председателя Отдела религиозного образования и катехизации Московской Патриархии. Идеи, развивавшиеся о. Глебом и его единомышленниками, конечно, не могли быть опубликованы в СССР, но многие из них (в том числе и основной труд о. Глеба «Библия и наука о сотворении мира») нашли выражение в сборнике статей «Той повеле, и создашася», изданном в 1999 г. [93], и продолжают публиковаться вплоть до настоящего времени [16; 19; 58; 82].
Хотя все христианские эволюционисты признают, что эволюция живых организмов есть факт, доказанный наукой, однако в качестве наилучшего соответствия христианскому мировоззрению могут рассматриваться различные эволюционные теории. Так, вслед за Фиолетовым [95] и благодаря традиционной связи дарвинизма с коммунистической идеологией большинство христианских эволюционистов принимают в качестве основы своего дискурса теорию номогенеза, предложенную Л. С. Бергом в 1922 г. [4] (Берг считал, что эволюция протекает на основе жёстких закономерностей, и тем самым противопоставлял свою теорию дарвинизму, рассматривающему эволюцию как случайный процесс). Однако в рамках православного эволюционизма также существуют представления [16], согласно которым христианской идее Творения лучше всего соответствует синтетическая теория эволюции (неодарвинизм).
В настоящее время достигнуто, в общем, хорошее согласование обоих (библейского и научного) описаний истории мира [16], хотя имеется всё же ряд противоречий.
Шестой «день» Творения. Органический мир миоценовой эпохи (~15 млн. лет назад). Реконструкция З. Буриана (1940) [3]

Пятый «день» Творения. Органический мир силурийского периода (~430 млн. лет назад). Реконструкция М. Хаттори (2016) [masahatto2.p2.bindsite.jp/pg154.html; дата обращения 19.03.19]

Конец третьего «дня» Творения. Ландшафт архейского акрона (~3 млрд. лет назад). На переднем плане – строматолиты (постройки циано-бактериальных сообществ). Реконструкция М. А. Пэрриш (2008)

Так, с научной точки зрения кажется невозможным существование зелёных растений при отсутствии Солнца (ср. Быт 1:11–19). Птицы, созданные в течение пятого «дня» Творения (Быт 1:20–23), согласно палеонтологическим данным появились на Земле заведомо позже, чем «гады земные» (Быт 1:24–25), как бы мы ни интерпретировали «птиц» и «гадов». Но подобные противоречия рассматриваются христианскими эволюционистами как несущественные. Они не могут быть основанием для отвержения одного из описаний как неистинного, но служат для нас стимулом для более глубокого изучения как Природы, так и Священного Писания.
Примечания
{1} Вероятно, самое значительное сочинение по «патрологическому» креационизму, опубликованное в последнее время, книга протоиерея Константина Буфеева «Православное учение о сотворении и теория эволюции» имеет следующее посвящение: «Посвящается иеромонаху Серафиму (Роузу), который превзошёл всех богословов XX века в способности выразить святоотеческое учение о Начале и Конце. Духовная эстафета, начатая отцом Серафимом как учителем, миссионером и просветителем, по его святым молитвам, продолжается в нашем скромном труде» [57, стр. 2].
Окончание следует
среда, 12 июня 2019
Возникновение помещаемого ниже текста требует очень длинного объяснения. Я родился и вырос в православной семье и с самого рождения воспитывался как член Русской Православной Церкви. Моими первыми духовными наставниками были, прежде всего, моя бабушка Лидия Алексеевна Квитко, ставшая моим первым «законоучителем», мой крёстный Глеб Александрович Каледа, геолог, принявший впоследствии священный сан, и мой духовный отец протоиерей Александр Егоров, клирик московского храма св. пророка Ильи Обыденного. Вместе с тем я очень рано начал интересоваться палеонтологией и ещё в дошкольном возрасте твёрдо решил, что когда вырасту, стану палеонтологом. «Старшие» (т. е. мои наставники, бывшие в ту пору для меня авторитетными) этот интерес одобряли и поддерживали и ориентировали мои интеллектуальные устремления на согласование истин, добытых палеонтологией, с православными представлениями о творении мира. Моя первая работа по данной тематике «Книга Бытия и теория эволюции» (см. на этом сайте запись от 02.08.2008, megatherium.diary.ru/p49935681.htm) была опубликована в 1999 году. Бабушки и о. Глеба к тому времени уже не было в живых, а о. Александр был тяжело болен, почти не служил и, скорее всего, тоже этой статьи не читал. Но я думаю, что все они её одобрили бы, т. к. она была написана вполне «в русле» их наставлений. Незадолго до смерти о. Александра, последовавшей 5 марта 2000 г., я попросил его указать мне духовного руководителя, к которому я мог бы обращаться после его ухода, и он препоручил меня о. Николаю Скурату – тогда ещё молодому священнику, служившему в том же приходе (церкви св. пророка Ильи Обыденного), что и сам о. Александр. О. Николай читал некоторые мои работы по христианскому эволюционизму, но не одобрял их. Правда, вступать со мной в полемику по поводу этих работ он избегал, но говорил что позиция креационистов для него «ближе», чем моя. Впрочем, немногим более, чем через год после смерти о. Александра, я переехал на постоянное жительство из Москвы в Санкт-Петербург и моё общение с о. Николаем почти прекратилось. Однако при редких наших встречах он говорил, что мои работы по христианскому эволюционизму написаны на языке, непонятном для богословов, и настоятельно советовал мне получить духовное образование с целью овладения языком богословия. Я долго не мог (или не хотел?) собраться и последовать его совету, но наконец осенью прошлого года поступил на трёхгодичные катехизаторские курсы имени святого праведного Иоанна Кронштадтского при Санкт-Петербургской Духовной Академии. Во втором семестре мы должны были написать реферат по курсу Священного Писания Ветхого Завета, и из предложенных тем я выбрал «Обзор толкований Шестоднева». Конечно, я скомпилировал этот реферат из своих прежних работ (в основном, из статей «Как описать историю мира?» и «Идеи номогенеза в творениях св. блаженного Августина»), но кое-что в нём было и нового (о взглядах на Творение свт. Григория Нисского, о фабулистских высказываниях А. В. Карташёва, о теории "Разумного Замысла" и др.). Ради этих сведений, ранее мною не публиковавшихся, я помещаю теперь этот реферат здесь, в своём дневнике.
ОБЗОР ТОЛКОВАНИЙ ШЕСТОДНЕВА (БЫТ 1:1–2:3)
1. Введение
Вера в то, что весь окружающий нас мир сотворён Единым Богом, была одной из главных отличительных черт религии древних евреев, выделявшей её среди прочих разнообразных и пёстрых верований, свойственных народам древнего мира (ср. Пс 120:2, 123:8, 145:5–6, Иона 1:8–9). Это положение было усвоено также и христианами (Деян 4:24, 14:15, 17:24) и зафиксировано в первом члене Никео-Цареградского Символа Веры, став таким образом одним из главных догматов православного вероучения. Библейским основанием данного догмата является Шестоднев – текст, составляющий первую и начало второй главы книги Бытия и содержащий описание процесса сотворения мира Богом. Важность этого текста для всей системы христианского вероучения определяется ещё и тем, что с него начинается и, следовательно, из него как бы вытекает всё Священное Писание.
Вместе с тем, вероятно, никакая другая часть Священного Писания не связана так тесно, как Шестоднев, с «естественным» Откровением, «книгой Природы» или «тварным миром» по христианской терминологии. Если мир сотворён Богом, то он несёт на себе как бы отпечаток своего Творца, и человек, изучая этот мир, через его познание отчасти познаёт и Бога, «обнаруживает сокрытого Творца так, как мы видим поэта за словами стихов или художника – за игрою красок» [108, стр. 80].
Создание отчётливого понятия о «книге Природы» обычно приписывается Ф. Бэкону [56], и это понятие использовалось (в том числе и в религиозном смысле, т. е. в значении «естественного» Откровения) многими последующими учёными-натуралистами, например, М. В. Ломоносовым [54]. Однако, если обращаться к истории, то корни подобных представлений можно усмотреть ещё в самых ранних памятниках христианской письменности. В качестве исходной точки здесь, вероятно, могут рассматриваться известные слова св. апостола Павла: «…Невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы...» (Рим 1:20). Ту же идею «прозревания» Творца в твари можно найти в произведениях «золотого века» святоотеческой письменности (IV – V вв.). Так, апеллируя к процитированным словам св. апостола Павла, свт. Афанасий Великий пишет: «Бог благ, человеколюбив, благопопечителен о сотворённых Им душах; и поскольку по естеству Он невидим и непостижим, превыше всякой сотворенной сущности, а род человеческий, произшедший из ничего, не достиг бы ведения о Нём несотворённом, то посему-то самому и привёл Он тварь Словом Своим в такое устройство, чтобы Его, невидимого по естеству, могли познавать люди хотя из дел. Ибо из дел нередко познаётся и такой художник, которого мы не видали. <…> Так и из порядка в мире можно познавать Творца и Создателя его, Бога, хотя и не видим Он телесным очам. Никто не смеет сказать, будто бы Бог во вред нам употребил невидимость естества Своего, и оставил Себя совершенно непознаваемым для людей. Напротив того, по сказанному выше, в такое устройство привел Он тварь, что, хотя невидим по естеству, однако же познаётся из дел» [71, стр. 171 – 172]. Великим Художником называет Бога-Творца и свт. Василий Великий [72, стр. 163]: «Достанет ли времени описать и поведать все чудеса Художника? Скажем и мы с пророком: яко возвеличашася дела Твоя, Господи: вся премудростию сотворил еси (Псал. 103, 24)». Ту же мысль в своём толковании на Быт 1:3–4 выражает брат свт. Василия свт. Григорий Нисский [74]. Согласно с ними высказывался и св. преп. Ефрем Сирин [69, стр. 270]: «Моисей в книге своей описал творение природы, чтобы о Творце свидетельствовали и природа, и Писание, – природа, когда пользуемся ею, Писание – когда читаем его. Сии два свидетеля обходят всякую страну, пребывают во все времена, они всегда перед нами и обличают отступников, отрицающих Творца». А свт. Григорий Богослов [73, стр. 185], близкий друг свтт. Василия Великого и Григория Нисского прямо писал, что весь природный мир – это «великая и преславная книга Божия, в которой открывается самим безмолвием проповедуемый Бог».
Метафора «книги Природы» имеет важное следствие этического характера. Если «книга Природы» написана Богом, то мы должны её читать и горе нам, если мы этого не делаем! Сегодня мы говорим, что всякая книга пишется в расчёте на определённую читательскую аудиторию, и если мы исключаем себя из «аудитории Бога», то это значит, что мы сознательно отвергаем Слово Божие, обращённое к нам, впадая в грех богоотступничества. Мир («книга Природы») сохраняет в себе следы процесса сотворения его Богом, и исследование этих следов научными методами исторических реконструкций [41] поставляет нам сведения, дополняющие и развивающие содержание Шестоднева, который, таким образом, оказывается «полем пересечения» священной истории как богословской дисциплины и естественной истории как раздела естествознания.
Признание Природы «естественным» Откровением ставит перед христианами непреходящую экзегетическую задачу: выработку такой интерпретации Священного Писания с одной стороны и «книги Природы» с другой, которая минимизировала бы противоречия между этими текстами. Отсутствие (или, по крайней мере, незначительность) таких противоречий может служить критерием истинности для интерпретаций обоих типов Откровения. «Ибо, – как пишет св. блаженный Августин [65, стр. 168 – 169], – весьма часто случается, что даже и не-христианин знает кое-что о земле, небе и остальных элементах видимого мира, о движении и обращении, даже величине и расстояниях звёзд, об известных затмениях солнца и луны, круговращении годов и времён, о природе животных, растений, камней и тому подобном, – знает притом так, что защищает это знание и очевиднейшими доводами, и опытом. Между тем, крайне позорно, даже гибельно и в высшей степени опасно, что какой-нибудь неверный едва-едва удерживается от смеха, слыша, как христианин, говоря о подобных предметах якобы на основании христианских писаний, несёт такой вздор, что, как говорится, блуждает глазами по всему небу. <…> В самом деле, когда они замечают, что кто-либо из числа христиан заблуждается относительно предмета, хорошо им известного, и своё нелепое мнение утверждает на наших писаниях: то как же они будут верить этим писаниям относительно воскресения мёртвых, надежды на вечную жизнь, царства небесного, думая, что писания эти сообщают ложные понятия даже и о таких предметах, которые сами они могли узнать путём опыта и при помощи несомненных цифр?»
Всё, изложенное выше, хорошо объясняет тот факт, что начиная с «злотого века» святоотеческой письменности и вплоть до настоящего времени в православной Церкви было создано и продолжает создаваться большое число толкований Шестоднева.
2. Святоотеческие толкования Шестоднева
Специальное толкование Шестоднева было написано свт. Василием Великим [72] около 367 г., а впоследствии свт. Григорий Нисский [74] написал дополнение к этой работе своего брата. Переработкой «Бесед на Шестоднев» свт. Василия Великого считается сочинение еп. Севериана Габальского «О творении мира», обычно включаемое в собрание произведений свт. Иоанна Златоуста [28; 53]. Другие христианские авторы IV – V вв. – св. преп. Ефрем Сирин [70], свт. Иоанн Златоуст [76], св. блаженный Августин [65 – 66] – рассматривали Шестоднев в рамках общего толкования всей книги Бытия.
Все эти толкования основываются на историчности интерпретируемого текста: все события, о которых идёт речь, по мнению экзегетов, несомненно имели место в истории, они суть исторические факты, и их описание в тексте соответствует исторической истине. Толкование же в собственном смысле заключается, с одной стороны, в более подробном описании данных фактов (буквальный метод), а с другой, – в определённых выводах богословского и нравственного характера (тропологический метод), которые из них следуют. В обобщённом виде эти выводы можно свести к следующим положениям.
1) Весь мир в целом и все отдельные его части сотворены Богом. Они не имеют самостоятельного (независимого от Бога) бытия и в силу этого не могут обладать какой-то собственной «святостью», быть объектами религиозного почитания (в этом заключается антиязыческая направленность или «полемичность» Шестоднева [22]).
2) Мир создан Богом премудро и прекрасно. Всякое бытие в этом мире (и наше собственное, в том числе) есть благо. Мы должны прославлять и благодарить Бога за «дар существования», которым Он наделил нас и окружающий нас мир.
3) Человек есть особое творение Божие, отличное от всякой другой твари. Он есть «венец Творения», его «наивысшее» и наисовершеннейшее проявление. Человек наделён особыми дарами («образом и подобием Божиим») и поставлен для управления всей остальной тварью как «наместник» Бога в сотворённом Им мире.
Что касается более подробного, чем в книге Бытия, описания фактов Творения, то здесь свв. отцы IV – V вв. опирались на естественно-научные представления своего времени, которые неизбежно кажутся устаревшими (по крайней мере, в некоторых аспектах) в свете наших современных знаний о Природе. Так, например, св. преп. Ефрем Сирин [70] представлял себе мир состоящим из четырёх «стихий» – земли, воды, огня и воздуха, а свт. Иоанн Златоуст [76] полагал, что Земля неким чудесным образом покоится на воде{1} . Протоиерей Глеб Каледа [55] настаивал на различении (особенно важном для патрологии) таких понятий как миропредставление и мировоззрение, в известном смысле аналогичном выделению в корпусе сочинений Аристотеля таких произведений как «Физика» и «Метафизика». Миропредставление («физика») – это система конкретных знаний о тварном мире, его структуре, функционировании и истории, создаваемая на основе наблюдений за конкрентными эмпирическими феноменами; тогда как мировоззрение («метафизика») – это комплекс представлений о последних началах этого мира, причинах и целях его существования, о роли человека в мире. «Мировоззрение современных христиан – то же, что мировоззрение свт. Василия Великого и апостола Павла, но наше миропредставление отличается не только от их миропредставления, но и от взгляда людей начала XX века» [55, стр. 90]. Вполне соглашаясь с данной мыслью о. Глеба, я думаю, что творения свв. отцов на самом деле должны восприниматься нами скорее как учебник, а не как справочник. Они учат нас тому, как мы должны мыслить, а не тому, что мы должны мыслить по тому или другому конкретному вопросу. И если, например, свт. Василий Великий интерпретировал Священное Писание на основе данных науки своего времени, а «нам следует думать так же» [31, стр. 5], то это значит, что мы должны интерпретировать Священное Писание в свете науки своего времени, а не времени свт. Василия Великого.
В связи с новейшей полемикой вокруг Шестоднева особенно интересным представляется вопрос о том, как свв. отцы оценивали продолжительность «дней» Творения. Длительность любых интервалов времени («дней», «часов», «суток» и т. д.), всегда определяется процедурой измерения. То, что «дни» Творения (по крайней мере, три первых «дня») не могли измеряться так, как мы сегодня измеряем астрономические сутки (по положению Солнца на небосводе), вполне недвусмысленно написано в самой книге Бытия, где указывается, что Солнце «для знамений, и времён, и дней, и годов» (Быт 1:14) было сотворено Богом лишь на четвёртый «день». Свв. отцы «золотого века» понимали, что экстраполяция «обычных» способов измерения времени в далёкое прошлое, необходимая для определения длительности «дней» Творения, представляет собой серьёзную проблему. Так, свт. Григорий Нисский [74] связывал возможность подобной экстраполяции с предполагаемым «круговым обтеканием тверди» первичным «мировым светом» (т.е. светом, сотворенным в первый «день» Творения еще до возникновения Солнца), а свт. Василий Великий [72] и св. преп. Ефрем Сирин [70] – с периодической пульсацией этого света. Но уже св. блаженный Августин [65] смог возвыситься до понимания относительности времени. Ему был известен тот факт, что Земля имеет форму шара и, когда в одном месте Земли день, в другом может быть ночь и наоборот («О книге Бытия буквально», кн. 1, гл. X), а XVI глава той же книги специально посвящена опровержению той «хронологической модели», которую исповедовали свт. Василий Великий и св. преп. Ефрем Сирин (его старшие современники).
И если уж пытаться выделить в этом разнобое мнений некую «православную святоотеческую традицию», то она, вероятно, сведётся к тому, что мы не знаем, сколько продолжались «дни» Творения, и вопрос этот вообще не имеет смысла: Шестоднев задаёт нам лишь порядок событий Творения и ничего не говорит о том, сколько времени отделяет одно из этих событий от другого. Подобное «порядковое» восприятие времени (характерное, кстати, для современной стратиграфии – науки о геологическом времени [17]) можно найти и в Священном Писании Нового Завета: «У Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день» (2 Петр 3:8).
Лишь естествознание XX в. снабдило нас способами измерения времени, которые можно экстраполировать в доисторическое прошлое (расширение Вселенной, радиоактивный распад изотопов, термолюминесценция минералов). И только эти научные данные со всей доказательной силой, свойственной науке, свидетельствуют о том, что время, прошедшее от начала мира до сотворения человека, было во много раз более долгим, чем вся последующая история человечества. Православной же святоотеческой традиции в отношении этих данных пока не существует (хочется надеяться, что только «пока»).
Вообще, можно заметить, что взгляды на Творение св. блаженного Августина несколько выделяются среди всех святоотеческих толкований Шестоднева. В силу этого они, вероятно, заслуживают отдельного рассмотрения. При попытке понять, чтó же думал св. блаженный Августин о сотворении мира, естественно обратиться прежде всего к его работе, носящей название «О книге Бытия буквально». И тут сразу же выясняется довольно странный факт: оказывается, что у св. блаженного Августина есть два разных произведения с таким названием! Одно из них [67], написанное (точнее, начатое) в 393 г., имеет подзаголовок «Книга неоконченная», тогда как второе [65; 66], превышающее по объёму первое почти в 10 раз, было написано много позже – в 401 – 402 гг. Создаётся впечатление, что в ходе работы над толкованием книги Бытия св. блаженный Августин натолкнулся на некую проблему, заставившую его отложить начатый труд. Решение этой проблемы было найдено лишь много лет спустя, но в его свете св. блаженный Августин совершенно по-новому увидел и осознал библейский текст, что и побудило его начать свой труд заново. Что же это была за проблема?
В работе 401 – 402 гг. просматривается вопрос, к которому автор возвращается многократно, снова и снова отвечая на него, и, скорее всего, именно с ним можно связать ту «нелинейность» в осмыслении книги Бытия св. блаженным Августином, о которой идёт речь. Вопрос этот есть вопрос о согласовании Шестоднева (Быт 1:1–2:3) с двумя другими местами Священного Писания: стихом из книги Премудрости Иисуса, сына Сирахова (Сир 18:1) и словами Христа из Евангелия от Иоанна (Ин 5:17).
По мнению св. блаженного Августина в словах «Qui vivit in aeternum creavit omnia simul» (Сир 18:1) можно усмотреть противоречие с Шестодневом, где творение мира описывается как процесс, растянутый во времени. Русский синодальный перевод этого стиха («Всё вообще создал Живущий во веки») не обнаруживает такого противоречия, но св. блаженный Августин трактует слова «creavit omnia simul» (в оригинале «ἔκτισεν τὰ πάντα κοινῇ») не в смысле всеобщности, как это делает русский перевод («создал всё вообще»), а в смысле одновременности, благодаря чему текст самого св. блаженного Августина на русский язык переводится как «создал всё разом» [65, стр. 275; 66, стр. 37]. Что же касается слов из Евангелия от Иоанна («Отец Мой доныне делает, и Я делаю»), то противоречие здесь можно увидеть с Быт 2:2, где говорится, что после шести «дней» Творения Бог «почил в день седьмый от всех дел Своих, которые делал», и по мнению большинства толкователей этот седьмой «день» божественного «покоя» продолжается и до настоящего времени.
Для того, чтобы понять, как св. блаженный Августин разрешает описанные противоречия, необходимо прежде всего более подробно рассмотреть его концепцию времени, о которой кратко говорилось выше. Рассуждения о времени составляют довольно значительную по объёму часть «Исповеди» св. блаженного Августина (главы 10 – 30 книги XI) [63], написанной около 400 г., т. е. незадолго до начала возобновления работы над толкованием книги Бытия, и историки философии рассматривают этот фрагмент «Исповеди» как одно из глубочайших за всю историю человечества сочинений о времени [39]. Понимание св. блаженным Августином сущности времени коренным образом отличается от тех «наивных» представлений, которые прочно утвердились в сознании европейцев со времён И. Ньютона и продолжают господствовать в нём до сего дня. Время по Ньютону – это абсолютная, самобытная, ни от чего не зависящая субстанция, в которую как бы «погружены» все процессы, протекающие в мире, и относительно которой они, собственно, и «текут». Для блаженного же Августина время само определяется происходящими процессами и каждый процесс – это и есть по существу отдельное время: «Творения эти находятся в постоянной видоизменяемости, так что изменяемость эта даёт себя чувствовать в мире изменением времён <во множественном числе! – А. Г.>, которые мы наблюдаем и исчисляем; ибо от этой видоизменяемости, которой подлежит всё сотворённое, происходят самые времена, когда вещи в своих видах и образах постоянно изменяются и разнообразятся; и это с тех пор, как получили они своё образование из первобытной (земли), не имевшей ни вида, ни образа» [63, стр. 347]{2} . То же понимание времени сохраняется у св блаженного Августина и в работе 401 – 402 гг.: «Ибо если бы не было никакого движения духовной ли или телесной твари, благодаря которому будущее через настоящее следует за прошедшим, то не было бы никакого и времени. А само собою понятно, что тварь не могла двигаться, когда её ещё не было. Отсюда, скорее время началось от твари, чем – тварь от времени, а и то, и другая – от Бога» [66, стр. 9].
Отсюда можно понять, насколько далёк был св. блаженный Августин от того, чтобы трактовать шесть «дней» Творения как шесть астрономических суток. Небесные светила, сотворённые Богом на четвёртый «день» (Быт 1:14–19), согласно св. блаженному Августину, не просто служат для измерения времени, но они порождают самое время. Следовательно, до их сотворения время было другим, и только это особое, во многом загадочное «время Творения» можно экстраполировать из первых трёх «дней» на последующие, тогда как обратная экстраполяция астрономического времени на «дни», в которые ещё не существовало светил, невозможна: «Таким образом, чрез все эти дни проходит один день, который надобно понимать не в смысле обыкновенных дней, которые, как мы видим, определяются и исчисляются обращением солнца, а некоторым другим образом, какого не могут быть чужды три первые дня, исчисляемые до создания светил. И такой порядок продолжался не до четвёртого дня, с которого мы могли бы мыслить обыкновенные уже дни, а до шестого и седьмого…» [65, стр. 267]. Именно с точки зрения, опирающейся на наше «обыкновенное», т. е. исчисляемое астрономическими процессами, время, шесть «дней Творения» и представляются единым мгновением: «Ибо о Творце, о Котором Писание передаёт нам, что Он совершил все дела Свои в шесть дней, в другом месте и, конечно, не в разлад с этим, написано, что Он созда вся обще (Сир. XVIII, 1). Отсюда, Кто создал всё разом, Тот разом же сотворил и те шесть или семь дней, или лучше – один, шесть или семь раз повторившийся день» [65, стр. 275].
Что же представляло собой это «мгновенное» творение, и как можно представить себе бытие мира во времени, которое с одной точки зрения не имело никакой длительности, а с другой – длилось шесть или семь «дней»? Согласно концепции св. блаженного Августина это было творение как бы «в потенции», творение не самих материальных вещей, а их «идей» (в платоновском смысле{3}) или замыслов Божиих. Временнáя же последовательность, описанная в Шестодневе, отражает не реальный исторический (в привычном для нас времени) ход событий, а их причинную связь или субстанциональную обусловленность: суша и море возникают из неоформленной материи, растения – из земли, водные животные – из воды и т. д. «Вот почему, обращаясь своею мыслью к первому творению, от которого Бог почил в седьмой день, мы должны представлять себе те дни не как нынешние солнечные дни, а самое [творческое] действие – не в том смысле, как действует Бог теперь, во времени, а в том, как действовал Он в тот момент, с которого началось время, как сотворил Он всё разом, сообщив ему и самый порядок в смысле не промежутков времени, а связи причин, так, чтобы всё, сотворённое Им разом, совершилось и в течение шестиричного числа того дня» [66, стр. 10].
Эта система божественных идей явилась программой для последующего бытия мира, которое мыслилось св. блаженным Августином не статичным, а изменяющимся: «…Бог без всякой перемены в Себе творит изменяемое и временное» [65, стр. 143]. Изменения, впрочем, происходят не сами по себе, а при непосредственном участии Самого Бога: «Ибо могущество Творца и сила Всемогущего и Вседержащего служит причиною существования всей твари; если бы эта сила перестала когда-нибудь управлять, вместе с тем перестали бы существовать и его виды, и вся бы природа погибла. Когда архитектор, окончив здание, оставляет его, произведённая им постройка продолжает существовать и без него; не то с миром: он не мог бы остаться и на мгновение ока, если бы Бог лишил его Своего промышления» [65, стр. 249].
Именно эта промыслительная деятельность Бога, согласно концепции св. блаженного Августина, и имелась в виду в словах «Отец Мой доныне делает и Я делаю» (Ин 5:17), тогда как божественный «покой» седьмого «дня Творения» означал завершённость «идеального» и мгновенного творения, совершившегося фактически ещё до начала нашего видимого мира и нашего времени. И если описанием этого «первого творения» является Шестоднев (Быт 1:1–2:3), то в последующих стихах 2-ой главы книги Бытия описывается уже «второе» или «промыслительное» творение мира. Вот, например, как блаженный Августин толкует Быт 2:9: «Итак, раз говорится: прозябе еще от земли всякое древо красное в видение и доброе в снедь, ясно, что Бог иначе произвёл от земли дерево теперь, и иначе тогда, когда земля в третий день произвела былие травное, сеющее семя по роду своему, и древо плодовитое по роду. Выражение: прозябе еще означает: «сверх того, чтó уже Он произвёл», тогда – в возможности и причинно, в действии, имеющим отношение к сотворению разом всего, по совершении чего Бог почил в седьмой день, теперь же – видимым образом, в действии, имеющем отношение к течению времён, к тому, как Он доселе делает» [66, стр. 38]. Или о сотворении животных (Быт 2:19): «Отсюда слова И созда Бог еще от земли вся звери сельныя и вся птицы небесныя сказаны здесь, надобно думать, не почему-либо иному, как потому, что земля произвела уже полевых зверей в шестой день, а воды птиц небесных – в пятый; следовательно, иначе тогда, и иначе теперь: тогда – в возможности и причинно, как приличествовало тому действию, которым сотворено всё разом и от которого Бог почил в седьмой день; а теперь – так, как видим мы то, чтó Он творит в течение времени, т. е. как доселе делает» [66, стр. 40]. Аналогично о сотворении человека: «Отсюда оба они <мужчина и женщина – А. Г.> иначе [сотворены] тогда, и иначе теперь: тогда – в возможности, вложенной в мир по слову Божию как бы в семени, ещё тогда, когда Бог разом сотворил всё, от чего почил в седьмой день и из чего в порядке веков возникает всё в свойственное каждому время; а теперь – в действии, приличествующем времени, – в том действии, которое Бог совершает доселе, когда в своё время надлежало произойти Адаму из персти земной, а жене – из ребра мужа» [66, стр. 40 – 41].
Таким образом, всё, творимое Богом «во времени» (промысел об изменяющемся мире), оказывается реализацией или развёртыванием изначальной «программы Шестоднева» и может быть описано латинским словом «evolutio», которое означало (например, у Цицерона) разворачивание свитка или раскрывание книги, т. е. чтение{4} (последовательную актуализацию прежде скрытой информации). Сам св. блаженный Августин всё же, кажется, не употреблял этого слова, но тем не менее, современные историки биологии [102] справедливо видят в нём одного из провозвестников эволюционизма. Из бытующих ныне теорий биологической эволюции взгляды св. блаженного Августина ближе всего к теории номогенеза, разработанной в начале XX в. Л. С. Бергом [4]. В отличие от дарвинизма номогенез видит в биологической эволюции закономерный процесс, т. е. развитие на основе жёстких и непреложных законов. Эволюция всего органического мира, согласно теории Берга, может быть уподоблена индивидуальному развитию одного организма: как в ДНК зиготы заложена полная программа онтогенеза, которая в дальнейшем лишь реализуется или воплощается в теле организма, так и в начальных простейших формах жизни уже была заложена вся программа дальнейшего развития всего органического мира. Наблюдаемая эволюция по отношению к этой программе является её реализацией, а сама программа по отношению к эволюции выступает как совокупность законов, её обуславливающих и направляющих. В концепции творения св. блаженного Августина аналогия с индивидуальным развитием организма (онтогенезом) просматривается столь же явственно, как и в номогенетической теории эволюции: «Но как в зерне невидимо заключается разом всё, что с течением времени вырастает в дерево, так точно и о самом мире, когда Бог сотворил всё разом, мы должны мыслить, что он имел всё, что в нём и с ним было сотворено, когда явился день: не только небо с солнцем, луною и светилами, вид которых остаётся при круговом движении, землю и бездны, которые претерпевают как бы непостоянные движения и представляют другую, низшую часть мира, но и всё то, что в возможности и причинно производит из себя вода и земля, раньше, чем оно с течением времени выходит наружу, как это нам известно уже из тех дел, которые Бог доселе делает» [66, стр. 32 – 33].
Кроме св. блаженного Августина предтечей эволюционизма, причём в его номогенетической интерпретации, называют также свт. Григория Нисского [39; 102]. Хотя в его толковании Шестоднева [74] можно уловить лишь отдалённые намёки на эволюционное понимание Творения, но другое сочинение свт. Григория «Об устроении человека» [75] говорит об этом вполне определённо. По мысли святителя в человеке происходит соединение природного – животного и даже растительного – начала с божественным и духовным, причём для достижения этого соединения природа предварительно проходит путь «совершенствования», пока не достигнет высочайшего уровня, достойного того, чтобы «сраствориться» с духовной сущностью: «…Природа каким-то путем последовательно восходила к совершенству. Ибо всякого вида души срастворены в этом словесном животном – человеке. По естественному виду души он питается; с растительной же силою соединена чувствительная, по природе своей занимающая середину между умопредставляемой и вещественной сущностью, в такой мере грубейшая первой, в какой она чище последней. Потом с тем, что есть тонкого и светоносного в естестве чувствующем, совершается некое освоение и срастворение умопредставляемой сущности, чтобы человек составлен был из этих трёх естеств» [75, стр. 100 – 101]. Это совершенствование природы может происходить «эволюционным» путём, т. е. не в результате создания новых существ из ничего, а в результате преобразования уже созданного: «…Как признаём силу Божией воли достаточной для создания существ из несуществовавшего, так преобразование созданного возводя к той же силе, верим не чему-либо невероятному» [75, стр. 173 – 174]. Однако в основании этого процесса совершенствования природы (так же, как в концепции св. блаженного Августина) лежит Божий замысел, направляющий его и управляющий им: «…Всё уже было в возможности при первом устремлении Божием к творению, как бы от вложенной некоей силы, осеменяющей бытие вселенной, но в действительности не было ещё каждой в отдельности вещи» [74, стр. 21].
К выводам, близким (но не тождественным!) с вышеизложенными относительно взглядов св. блаженного Августина на Творение приходит католический богослов К. Каннингем в 6-ой главе своей книги, недавно опубликованной на русском языке [33]. Согласно Каннингему св. блаженный Августин мыслил Творение как происходящее вообще вне времени: «Согласно Августину, самое время было сотворено, а потому мы, как существа сотворённые, воспринимаем вещи как находящиеся во времени. Но подобного рода темпоральные термины совершенно неприменимы к Богу – в противном случае речь шла бы не о творении ex nihilo (из ничего), а о создании мира путём структурирования уже существующего материала (т. е. о возврате к язычеству)» [33, стр. 367]. Как было показано выше, время, согласно св. блаженному Августину, действительно было сотворено (ибо оно и есть те процессы, которые протекают в сотворённом мире), однако это не исключает того обстоятельства, что Творение продолжалось (во времени!) и после сотворения времени. Конечно, оно уже не было творением ex nihilo и его действительно можно назвать «структурированием уже существующего материала», но такое Творение прямо засвидетельствовано в книге Бытия, например, когда речь идёт о сотворении человека: «И создал Господь Бог человека из праха земного…» (Быт. 2:7). Понятно, что это свидетельство Священного Писания не есть «возврат к язычеству» и св. блаженный Августин был бесконечно далёк от того, чтобы отрицать такое Творение. Он говорил лишь о том, что это «второе» Творение надо отличать от «первого», происходившего вне времени (во всяком случае, вне того времени, в котором мы живём сейчас) и описанного в 1-ой главе книги Бытия. Впрочем, главный вывод, который делает Каннингем из своего анализа наследия св. блаженного Августина, вполне созвучен идеям, развиваемым в настоящей работе. «Августин был не единственным отцом церкви, который мыслил творение в терминах того, что мы иначе не называем, как определенной версией эволюции», – пишет он [33, стр. 369] и дальше приводит многочисленные цитаты из свт. Григория Нисского, свидетельствующие о том, что взгляды, этого отца Церкви IV века были также очень близки к эволюционной теории номогенеза.
3. Толкования Шестоднева в новейшее время
Тот культурный феномен, который мы сегодня называем естествознанием, зародился в Западной Европе на рубеже XIII и XIV веков в рамках католического богословия, точнее, тогдашней фазы его развития, именуемой схоластикой. По существу, исторически первой наукой (в современном смысле этого слова) было богословие [12; 51; 61; 107], а сведения, составившие в дальнейшем фундамент конкретных естественных наук, входили в состав богословской дисциплины, именовавшейся естественным богословием (“theologia naturalis”), и считались источником знаний о Боге и средством приближения к Нему. Эти так называемые «конкретные науки» (физика, химия, биология, геология) отпочковались от богословия в ходе того процесса дифференциации, который характерен для развития науки вообще.
Одну из главных своих задач схоластика видела в доказательстве бытия Бога, рациональном обосновании истин христианской веры. Схоласты пытались придать богословию убедительную или доказательную силу, заставить согласиться с его положениями даже такого человека, который a priori этого не хочет. На службу этой сверхзадачи были поставлены и начала естественных наук, зарождавшиеся в рамках естественного богословия{5}. Однако с православной точки зрения данная программа заведомо была бесперспективной, ибо христианство апеллирует к свободному выбору человека. Бог не навязывает нам Себя принудительным путём, Он хочет от нас «подвига веры», т. е. определённого акта нашей свободной воли. Именно поэтому вера традиционно считается одной из главных христианских добродетелей и ставится в нравственную заслугу человеку, который ею обладает. Все же «доказательства» бытия Божия, разработанные в рамках схоластической традиции, оказались недейственными: мне не известно ни одного случая, чтобы они кого-нибудь и в чём-нибудь убедили, т. е. выполнили свою основную, доказательную функцию.
С начала XVII в. естествознание всё больше ориентируется на поиски причин природных явлений. Основы этой (как бы мы сейчас сказали) «исследовательской программы» были заложены И. Кеплером, и поистине грандиозным её триумфом стала теория всемирного тяготения И. Ньютона, объяснившая устройство Солнечной системы [13]. Сам Ньютон затруднялся с объяснением стабильности орбит, по которым планеты вращаются вокруг Солнца, и считал, что эта стабильность есть результат непосредственного вмешательства Бога в мировые процессы. Однако в конце XVIII в. П. С. Лаплас, развив математическую теорию возмущений, показал, что для поддержания стабильности планетарных орбит достаточно самих законов Ньютона [9]. Таким образом, примерно к XIX веку выяснилось, что наука может существовать совершенно независимо от богословия: можно быть, например, хорошим физиком и при этом исповедовать атеизм, т. е. вообще не верить в Бога. До осознания теоремы Гёделя, утверждающей существование в рамках любой достаточно богатой системы аксиом утверждений, которые нельзя ни доказать, ни опровергнуть, в те времена было ещё очень далеко (будучи доказанной в 1931 г., она даже и в XX веке вызвала впечатление взорвавшейся бомбы). Поэтому тот факт, что наука оказалась неспособной доказать существование Бога, был истолкован в виде тезиса «Наука доказала, что Бога нет», принятого в дальнейшем на вооружение государственной атеистической пропагандой в большевистской России.
«Властители дум» научной революции XVII – XVIII вв. (Кеплер, Галилей, Ньютон, Лаплас) были физиками и астрономами, тогда как биология в начале XIX в. оставалась чуть ли не единственным прибежищем естественного богословия. Так, в 1802 г. был опубликован учебник для богословских факультетов университетов У. Пэйли «Естественная теология», который по собственному признанию Ч. Дарвина оказал на него в молодости огромное влияние [52; 103; 116]. Теория, развиваемая в этой книге, имеет в действительности мало общего с христианской теологией вообще и с естественной теологией в частности. Она сводится к констатации «идеальной приспособленности» живых организмов к условиям среды их обитания и использованию этого «факта» для «телеологического доказательства» бытия Божия. Но именно благодаря этой книге Дарвин усвоил интерес к теме адаптации, и его собственная теория может рассматриваться как попытка «естественного» объяснения феномена приспособленности, т. е. «изгнания Бога» также и из сферы биологии.
Не удивительно, что многими современниками Дарвина его теория была воспринята как принципиально атеистическая, противостоящая любым представлениям о Творце и Творении, и это мнение продолжает поддерживаться атеистически настроенными учёными и философами вплоть до настоящего времени. В Советском Союзе в официальной коммунистической пропаганде слова «марксизм», «атеизм» и «дарвинизм» часто употреблялись вместе и воспринимались как синонимы, в особенности в среде людей, не очень высоко образованных. В наше время Р. Докинз полагает, что только теория Дарвина дала возможность атеизму стать интеллектуально завершённым мировоззрением [26]. А Д. Деннетт сравнивает теорию Дарвина с некоей универсальной кислотой, способной растворить любые твёрдые предметы, которые в свете данной метафоры являются аналогами «религиозных предрассудков» [111].
Однако уже с самого начала существования теории Дарвина бытовало также мнение об отсутствии каких-либо серьёзных противоречий между ней и описанием Творения, которое даёт нам Шестоднев. Сам Дарвин писал в заключительной главе «Происхождения видов»: «Я не вижу достаточного основания, почему бы воззрения, излагаемые в этой книге, могли задевать чьё-либо религиозное чувство» [21, стр. 413]. А рассказывая в «Автобиографии» о том, какой успех имело 1-е издание его работы, он замечает: «Даже на древнееврейском языке появился очерк о ней, доказывающий, что моя теория содержится в Ветхом завете!»{6} [20, стр. 132]. Из ранних сторонников (фактически современников) Дарвина на чисто христианской почве можно упомянуть также англиканского священника Чарльза Кингсли, духовника королевы Виктории [7] и кардинала Джона Генри Ньюмена [33]. В качестве апологии дарвинизма, написанной на русском языке и с православных позиций, можно рассматривать юмористическое стихотворение А. К. Толстого «Послание к М. Н. Лонгинову о дарвинисме» [94], появившееся в 1872 г.
С тех пор и до настоящего времени соотношение биологической эволюции и Шестоднева находится в центре широкой и интенсивной дискуссии, которая выглядит как настоящая война мнений, кажущихся непримиримыми. В России эта дискуссия особенно обострилась после падения коммунистического режима, когда были сняты идеологические запреты на открытое обсуждение богословских проблем. Для того, чтобы как-то ориентироваться в существующем «бурном море» мысли, представляется разумным выделить в нём пять основных направлений, которые последовательно рассматриваются ниже.
3.1. Фабулизм
Понятно, что атеизм, уходящий своими корнями в глубокую древность (ср. Пс 13:1), не предполагает a priori никакой истины, стоящей за библейским текстом. Большинство современных атеистов рассматривает книгу Бытия как собрание мифов, в том числе мифов космогонических, отражающих представления древних евреев о происхождении и устройстве Вселенной, и неизбежно фантастических, т. е. имеющих весьма мало общего с действительностью, раскрываемой нами в научном познании.
Вместе с тем, близкое представление о том, что библейское повествование о сотворении мира (Быт 1 – 2) не содержит в себе никакой исторической истины, существует и в современном христианстве. Концепция эта может быть названа фабулизмом (от лат. “fabula” - «басня», «сказка»), ибо она рассматривает Шестоднев как своего рода нравоучительную басню. Фабулизм утверждает, что в намерения автора книги Бытия не входило сообщать читателям какие-либо сведения по истории Земли и жизни на ней (точно так же, например, как И. А. Крылов совсем не утверждал, что события, описанные им в басне «Лебедь, Рак и Щука» действительно имели место в истории) и, таким образом, единственный смысл Шестоднева – нравоучительный: из библейского повествования читатели должны усвоить лишь то, что всё, видимое ими, есть Божие творение и прославлять Бога за это творческое деяние.
Выражение подобных идей можно увидеть уже в произведениях Оригена: «…Я думаю, никто не сомневается, что этот рассказ образно указывает на некоторые тайны через историю только мнимую, но не происходившую телесным образом» [49, стр. 274]. Хотя конкретно речь здесь идёт не о Шестодневе, а о повествовании Быт 3:8, но в принципе данный подход может быть распространён на любой священный текст и от него берёт своё начало «александрийская» традиция аллегорического толкования Священного Писания. Рецепция этой традиции Церковью в последующие века долго не доходила до тех крайних форм, которые присущи фабулизму, уравновешиваясь традицией так называемого «буквального» толкования: аллегорический смысл событий, описываемых в Библии, не исключал, а наоборот, подразумевал то, что сами эти события действительно происходили в истории. И лишь в XX в. аллегорическая традиция породила столь экстремистское направление в экзегетике, как фабулизм, ныне всё шире захватывающее христианское сознание.
В русскоязычном православии провозвестником фабулизма ещё в 1930-е годы явился С. Л. Франк [97], выдвинувший идею о том, что религия и наука не нуждаются во взаимном согласовании, поскольку они не имеют друг с другом ничего общего, их «предметы рассмотрения» совершенно различны и, образно говоря, нигде не пересекаются. Конкретные выводы из этой идеи в отношении экзегетики Шестоднева прозвучали в докладе «Ветхозаветная библейская критика», с которым в 1944 г. выступил А. В. Карташёв в Свято-Сергиевском православном богословском институте в Париже: «Бесплодно и нецелесообразно продолжать искусственные, натянутые сближения Моисеева сказания о шестидневном миротворении с бывшими, настоящими и будущими, текущими и меняющимися научными теориями и гипотезами, ибо обязательна для нас в этом лишь глубочайшая мудрость догматического учения об абсолютно Едином Начале всего, о Творце всего из ничего <…> и о даровании Творцом этой созданной так называемой “материи” сил и законов, по которым уже она сама в закономерной постепенности, в положенные времена и сроки раскрывает полноту космической жизни <…>. Вся остальная словесная плоть Моисеева повествования есть только скромное повторение праотеческих колыбельных сказаний первобытного человечества, что принадлежит к области так называемого фольклора со свойственными последнему мифологемными пережитками, былинно-богатырскими стилизациями и преувеличенными чудесами <...>» [34, стр. 57 – 58].
В 1981 г. близкие к этой позиции представления были сформулированы папой Иоанном Павлом II в обращении к Папской Академии Наук «Космология и фундаментальная физика»: «Сама Библия рассказывает нам о происхождении и устройстве Вселенной не для того, чтобы представить нам научный трактат, но для того, чтобы ясно показать, каким должно быть правильное отношение человека к Богу и Вселенной. Священное Писание хочет просто провозгласить, что мир был сотворён Богом, и чтобы научить нас этой истине, оно использует те космологические термины, которые употреблялись во времена его автора. Равным образом, Священная Книга желает сообщить людям, что наш мир был сотворён не в качестве местопребывания богов, как учили прочие космогонии и космологии, но для того, чтобы служить человеку и славе Божьей. Всякое же иное учение о происхождении и строении Вселенной чуждо целям Библии, которая хочет научить нас не тому, как устроены небеса, но тому, как человек может на небеса попасть» [цит. по 33, стp. 366]. В настоящее время на Западе эту идею развивают естествоиспытатели, позиционирующие себя как агностиков [112], а также (видимо, руководствуясь принципом “Roma locuta, causa finita”) многие католические богословы [13; 33; 37]. В таком же духе выступают и некоторые протестанты [см. библиографию в 98]. В Русской Православной Церкви идеи фабулизма, кажется, не имеют ещё широкого распространения, хотя и высказываются в отдельных публикациях [87]. Очень ясное и последовательное изложение фабулистской герменевтической концепции можно найти в последней главе недавно опубликованной книги священника Антония Лакирева [78].
Можно согласиться с фабулистами в том, что Священное Писание – это собрание очень разнородных текстов, написанных разными авторами, в разные времена, в рамках разных культур и на разных языках. Поэтому разные части Библии написаны в разных жанрах и некоторые из них вполне могли быть написаны в жанре басни. Однако в отношении Шестоднева подобное «внеисторическое» толкование, по-видимому, не соответствует православной традиции. Бог открывает Себя в истории – таков один из очевидных принципов православного богословия [77], который естественно порождает концепцию священной истории как области знания, подлежащей вéдению и религии, и науки (поскольку история есть наука). С XIX в. по настоящее время священная история рассматривалась как обязательная составная часть систематического православного богословия и, соответственно, – всех уровней богословского образования от школьных учебников по закону Божию до курсов, читаемых в духовных академиях. Общим местом православной герменевтики является классификация книг Священного Писания, включающая в качестве одного из подразделений книги исторические, т. е. такие, которые описывают в хронологическом порядке события, реально происходившие в прошлом по отношению ко времени написания самой книги. И хотя книга Бытия в рамках этой традиции (по непонятным для меня причинам) обычно рассматривается как законоположительная, а не как историческая книга [см., например, 47], но при чтении её кажется очевидным, что перед нами – историческое повествование, описание событий, действительно имевших место в прошлом. В 1-ой главе книги Бытия эти события распределены по «дням», а сами «дни» занумерованы и каждый из них имеет, к тому же, свой «вечер» и своё «утро». Временнáя связность повествования подчёркивается также многократным повторением союза «и», с которого начинаются все (!) стихи 1-ой главы кроме 1-го, 2-го и 30-го. Всё это обеспечивает как бы погружение читателя в реальный поток времени и позволяет относить Шестоднев к жанру исторической хроники, т. е. такого повествования о прошлом, в котором излагаются реально (по крайне мере, с точки зрения автора) происходившие события, и при этом порядок их изложения, по крайней мере, в общих чертах так же соответствует реальному порядку их следования друг за другом во времени. Как уже отмечалось в разделе 2, такое же видение Шестоднева было характерно для свв. отцов Церкви IV – V вв.
Таким образом, в рамках православной герменевтической традиции книга Бытия может рассматриваться как книга, написанная в жанре исторической хроники (а отнюдь не басни), т. е. излагающая Откровение, преподанное нам через события, которые действительно имели место в истории. И если основная её часть касается истории человечества, то 1-ая глава имеет общий предмет с естественной историей, порождая необходимость сопоставления с истинами, добытыми науками естественно-исторического цикла: космологией, геологией, палеонтологией.
3.2. Креационизм
Слово «креационизм» образовано от латинского “creatio”, что значит «творение» или «создание». Соглашаясь с существованием непримиримого противоречия между наукой и религией, креационисты (в отличие от атеистов) принимают сторону религии в этом мнимом столкновении и стараются опровергнуть результаты научных исследований. Если попытаться выделить некую общую «платформу», общую систему взглядов, свойственную всем креационистам, то можно легко увидеть, что «платформа» эта, во-первых, чрезвычайно бедна содержанием, а во-вторых, носит чисто негативный характер. По существу она сводится к отрицанию эволюционного процесса. При чтении креационистской литературы складывается впечатление, что её авторами движет ничто иное, как ненависть к самому понятию эволюции, т. е. их концепция имеет не рациональную, а чисто эмоциональную основу. Согласно взглядам креационистов Бог очень быстро (почти мгновенно) создал Вселенную, которая с тех пор пребывает неизменной. А все доказательства, поставляемые наукой в пользу существования эволюции, являются ложными и должны быть опровергнуты (именно поэтому креационизм должен рассматриваться как учение антинаучное). На вопрос: «А что же всё-таки было, если не было эволюции?» разные креационисты отвечают по-разному, а в худшем случае вообще ничего не отвечают, оставляя вопрошающего один на один перед лицом возникающих противоречий. Например, с одной стороны, они отрицают возможность происхождения жизни из неорганической материи, а с другой, – возможность происхождения человека от каких-либо животных предков. Соединение этих двух положений порождает совершенно парадоксальную ситуацию: получается, что Бог мог создать из глины человека, а бактерию – не мог. Однако сами креационисты как бы не замечают данного противоречия и никогда даже не упоминают о его существовании.
Как показывает знаменитый диспут Т. Гексли с англиканским епископом С. Уилберфорсом [33], креационизм можно проследить в прошлое вплоть до появления работ Дарвина. Поэтому сейчас, наверное, уже трудно сказать, кто был первым креационистом. Резкое усиление активности креационистов начинается в протестантских кругах США с 20-ых годов прошлого века, когда в штате Теннеси прошёл даже судебный процесс, связанный с преподаванием эволюционного учения в средней школе. Периодически подобные процессы возникают вплоть до настоящего времени [25], свидетельствуя о продолжающейся высокой активности протестантских креационистов в США [24]. В той же стране в 70-ых – 80-ых годах XX в. жил и работал православный иеромонах Серафим Роуз, известный своими креационистскими трудами [31; 50]. В 1980-ых годах креационистская литература начала понемногу проникать в Россию, главным образом, из США и, конечно, эта литература была представлена работами американских протестантских фундаменталистов – Г. Морриса [45], Т. Ф. Хайнца [100] и др. С 90-ых годов начали появляться оригинальные работы русских православных креационистов [6; 11; 23; 38; 57; 79 – 81; 83; 85; 86; 104] – в основном, как реакция на «атеистический дарвинизм», искусственно насаждавшийся в предшествующие годы. На вопрос «Наука или религия?», задававшийся коммунистической пропагандой, русские православные верующие отвечали «Религия!», заявляя этим ответом свою оппозицию официальному атеизму и не замечая, что сама постановка вопроса была порочной (ибо подлинное научное исследование тварного мира не может вступать в противоречие с верой в его Творца; как научное исследование, так и религиозная вера имеют один и тот же идеал и одну и ту же цель – Истину). Сейчас это течение переживает время расцвета. Православные креационисты публикуют большое количество литературы, проявляют значительную активность на разного рода конференциях, а также в Интернете.
Во всём мире происходит борьба между «нормальной» биологией и креационизмом за влияние в сфере школьного образования. В 2004 г. итальянское правительство С. Берлускони попыталось запретить преподавание эволюционной теории в средней школе, но потерпело неудачу. В июне 2006 г. академии наук из 67 стран мира приняли декларацию (её текст опубликован в [2]) о необходимости изучения в школе теории эволюции. В ответ на это заявление Парламентская ассамблея Совета Европы в октябре 2007 г. приняла резолюцию № 1580 «Опасность креационизма для образования» [36]. В мае 2009 г. Российская Академия Наук присоединилась к заявлению 67 академий, хотя в итоговом решении Общего собрания РАН резолюция № 1580 не упоминалась [2]. И если в Западной Европе преподавание креационизма вместо «нормальной» биологии в средней школе только обсуждается [113], то в России его уже преподают в ряде школ [8].
Непродуманность и внутренняя противоречивость креационистской концепции особенно наглядно проявляется, если вопрос о существовании биологической эволюции поставить так, как его сформулировал{7} Дарвин в заголовке своего главного труда («Происхождение видов»). Достаточно типичным и характерным представляется, например, следующий диалог между эволюционистом (Э.) и креационистом (К.).
Э. Откуда взялись все те виды живых существ, которые мы во множестве видим вокруг себя?
К. Их сотворил Бог.
Э. Из чего Он их сотворил?
Ответить на этот вопрос «Из ничего» креационистам препятствует свидетельство Священного Писания, где о человеке, например, прямо говорится, что он был сотворён Богом «из праха земного» (Быт 2:7). А если допустить, что виды были созданы из чего-то, то возникает естественный вопрос, чем такое творение отличается от эволюции этого «чего-то». Поэтому продолжение диалога выглядит, как правило, примерно так:
К. Я не знаю, из чего Бог сотворил виды, но точно знаю, что не из других видов.
Э. Но как вы можете утверждать это, если вы не знаете, как происходил процесс Творения?
«…Твой контроль с какого права,
Был ли ты при сотвореньи?
Отчего б не понемногу
Введены во бытиё мы?
Иль не хочешь ли уж Богу
Ты предписывать приёмы?» [94, стр. 498].
Различные ответы на этот вопрос, которые можно найти в креационистской литературе, позволяют выделить в креационизме как бы два разных направления. Одно из них условно может быть названо «патрологическим», а другое – «научным».
Примечания
{1} Кстати, в православной гимнографии можно встретить и совершенно иное представление о положении Земли в мироздании: «Водрузивый на ничесом же землю повелением Твоим, и повесивый неодержимо тяготеющую, на недвижимем, Христе, камене заповедей Твоих, Церковь Твою утверди, едине Блаже и Человеколюбче» (воскресный канон 5-го гласа, ирмос 3-ей песни [48, стр. 122 – 123]).
{2} В новейшее время близкую концепцию развивали В. И. Вернадский [10] и С. В. Мейен [40; 42].
{3} Вообще св. блаженный Августин очень высоко оценивал философию Платона и считал, что «никто не приблизился к нам <христианам – А. Г.> более, чем философы его школы» [64, стр. 9; см. также 68].
{4} Разумеется, чтение вслух. Люди античности не умели читать «глазами», не произнося вслух написанного текста, так же, как большинство современных людей не может представить себе содержания музыкального произведения на основании только его нотной записи [1]. Тот же св. блаженный Августин уже на рубеже IV и V вв. по Р. Х. считал достойным специального упоминания и объяснения тот факт, что его учитель св. Амвросий Медиоланский читал книги не вслух, а «про себя» («Исповедь», VI, 3 [63]).
{5} Эта «схоластичность» задачи, изначально поставленной перед естественным богословием, привела в новейшее время к значительному искажению смысла и объёма самогó понятия «естественное богословие». Под этим термином стали понимать именно так называемые «доказательства» бытия Божия – даже те из них, которые не имеют никакого отношения к природному миру и изучающим его естественным наукам [см., например, 35].
{6} Имеется в виду книга Н. Галеви “תולדת האדם” («Родословие Адама»), изданная в России около 1875 г.
{7} Следует признать, что в этой формулировке – непреходящая заслуга Дарвина перед наукой, вне зависимости от того, соглашаемся ли мы или нет с тем ответом, который он дал на поставленный вопрос.
Продолжение следует.
ОБЗОР ТОЛКОВАНИЙ ШЕСТОДНЕВА (БЫТ 1:1–2:3)
1. Введение
Вера в то, что весь окружающий нас мир сотворён Единым Богом, была одной из главных отличительных черт религии древних евреев, выделявшей её среди прочих разнообразных и пёстрых верований, свойственных народам древнего мира (ср. Пс 120:2, 123:8, 145:5–6, Иона 1:8–9). Это положение было усвоено также и христианами (Деян 4:24, 14:15, 17:24) и зафиксировано в первом члене Никео-Цареградского Символа Веры, став таким образом одним из главных догматов православного вероучения. Библейским основанием данного догмата является Шестоднев – текст, составляющий первую и начало второй главы книги Бытия и содержащий описание процесса сотворения мира Богом. Важность этого текста для всей системы христианского вероучения определяется ещё и тем, что с него начинается и, следовательно, из него как бы вытекает всё Священное Писание.
Вместе с тем, вероятно, никакая другая часть Священного Писания не связана так тесно, как Шестоднев, с «естественным» Откровением, «книгой Природы» или «тварным миром» по христианской терминологии. Если мир сотворён Богом, то он несёт на себе как бы отпечаток своего Творца, и человек, изучая этот мир, через его познание отчасти познаёт и Бога, «обнаруживает сокрытого Творца так, как мы видим поэта за словами стихов или художника – за игрою красок» [108, стр. 80].
Создание отчётливого понятия о «книге Природы» обычно приписывается Ф. Бэкону [56], и это понятие использовалось (в том числе и в религиозном смысле, т. е. в значении «естественного» Откровения) многими последующими учёными-натуралистами, например, М. В. Ломоносовым [54]. Однако, если обращаться к истории, то корни подобных представлений можно усмотреть ещё в самых ранних памятниках христианской письменности. В качестве исходной точки здесь, вероятно, могут рассматриваться известные слова св. апостола Павла: «…Невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы...» (Рим 1:20). Ту же идею «прозревания» Творца в твари можно найти в произведениях «золотого века» святоотеческой письменности (IV – V вв.). Так, апеллируя к процитированным словам св. апостола Павла, свт. Афанасий Великий пишет: «Бог благ, человеколюбив, благопопечителен о сотворённых Им душах; и поскольку по естеству Он невидим и непостижим, превыше всякой сотворенной сущности, а род человеческий, произшедший из ничего, не достиг бы ведения о Нём несотворённом, то посему-то самому и привёл Он тварь Словом Своим в такое устройство, чтобы Его, невидимого по естеству, могли познавать люди хотя из дел. Ибо из дел нередко познаётся и такой художник, которого мы не видали. <…> Так и из порядка в мире можно познавать Творца и Создателя его, Бога, хотя и не видим Он телесным очам. Никто не смеет сказать, будто бы Бог во вред нам употребил невидимость естества Своего, и оставил Себя совершенно непознаваемым для людей. Напротив того, по сказанному выше, в такое устройство привел Он тварь, что, хотя невидим по естеству, однако же познаётся из дел» [71, стр. 171 – 172]. Великим Художником называет Бога-Творца и свт. Василий Великий [72, стр. 163]: «Достанет ли времени описать и поведать все чудеса Художника? Скажем и мы с пророком: яко возвеличашася дела Твоя, Господи: вся премудростию сотворил еси (Псал. 103, 24)». Ту же мысль в своём толковании на Быт 1:3–4 выражает брат свт. Василия свт. Григорий Нисский [74]. Согласно с ними высказывался и св. преп. Ефрем Сирин [69, стр. 270]: «Моисей в книге своей описал творение природы, чтобы о Творце свидетельствовали и природа, и Писание, – природа, когда пользуемся ею, Писание – когда читаем его. Сии два свидетеля обходят всякую страну, пребывают во все времена, они всегда перед нами и обличают отступников, отрицающих Творца». А свт. Григорий Богослов [73, стр. 185], близкий друг свтт. Василия Великого и Григория Нисского прямо писал, что весь природный мир – это «великая и преславная книга Божия, в которой открывается самим безмолвием проповедуемый Бог».
Метафора «книги Природы» имеет важное следствие этического характера. Если «книга Природы» написана Богом, то мы должны её читать и горе нам, если мы этого не делаем! Сегодня мы говорим, что всякая книга пишется в расчёте на определённую читательскую аудиторию, и если мы исключаем себя из «аудитории Бога», то это значит, что мы сознательно отвергаем Слово Божие, обращённое к нам, впадая в грех богоотступничества. Мир («книга Природы») сохраняет в себе следы процесса сотворения его Богом, и исследование этих следов научными методами исторических реконструкций [41] поставляет нам сведения, дополняющие и развивающие содержание Шестоднева, который, таким образом, оказывается «полем пересечения» священной истории как богословской дисциплины и естественной истории как раздела естествознания.
Признание Природы «естественным» Откровением ставит перед христианами непреходящую экзегетическую задачу: выработку такой интерпретации Священного Писания с одной стороны и «книги Природы» с другой, которая минимизировала бы противоречия между этими текстами. Отсутствие (или, по крайней мере, незначительность) таких противоречий может служить критерием истинности для интерпретаций обоих типов Откровения. «Ибо, – как пишет св. блаженный Августин [65, стр. 168 – 169], – весьма часто случается, что даже и не-христианин знает кое-что о земле, небе и остальных элементах видимого мира, о движении и обращении, даже величине и расстояниях звёзд, об известных затмениях солнца и луны, круговращении годов и времён, о природе животных, растений, камней и тому подобном, – знает притом так, что защищает это знание и очевиднейшими доводами, и опытом. Между тем, крайне позорно, даже гибельно и в высшей степени опасно, что какой-нибудь неверный едва-едва удерживается от смеха, слыша, как христианин, говоря о подобных предметах якобы на основании христианских писаний, несёт такой вздор, что, как говорится, блуждает глазами по всему небу. <…> В самом деле, когда они замечают, что кто-либо из числа христиан заблуждается относительно предмета, хорошо им известного, и своё нелепое мнение утверждает на наших писаниях: то как же они будут верить этим писаниям относительно воскресения мёртвых, надежды на вечную жизнь, царства небесного, думая, что писания эти сообщают ложные понятия даже и о таких предметах, которые сами они могли узнать путём опыта и при помощи несомненных цифр?»
Всё, изложенное выше, хорошо объясняет тот факт, что начиная с «злотого века» святоотеческой письменности и вплоть до настоящего времени в православной Церкви было создано и продолжает создаваться большое число толкований Шестоднева.
2. Святоотеческие толкования Шестоднева
Специальное толкование Шестоднева было написано свт. Василием Великим [72] около 367 г., а впоследствии свт. Григорий Нисский [74] написал дополнение к этой работе своего брата. Переработкой «Бесед на Шестоднев» свт. Василия Великого считается сочинение еп. Севериана Габальского «О творении мира», обычно включаемое в собрание произведений свт. Иоанна Златоуста [28; 53]. Другие христианские авторы IV – V вв. – св. преп. Ефрем Сирин [70], свт. Иоанн Златоуст [76], св. блаженный Августин [65 – 66] – рассматривали Шестоднев в рамках общего толкования всей книги Бытия.
Все эти толкования основываются на историчности интерпретируемого текста: все события, о которых идёт речь, по мнению экзегетов, несомненно имели место в истории, они суть исторические факты, и их описание в тексте соответствует исторической истине. Толкование же в собственном смысле заключается, с одной стороны, в более подробном описании данных фактов (буквальный метод), а с другой, – в определённых выводах богословского и нравственного характера (тропологический метод), которые из них следуют. В обобщённом виде эти выводы можно свести к следующим положениям.
1) Весь мир в целом и все отдельные его части сотворены Богом. Они не имеют самостоятельного (независимого от Бога) бытия и в силу этого не могут обладать какой-то собственной «святостью», быть объектами религиозного почитания (в этом заключается антиязыческая направленность или «полемичность» Шестоднева [22]).
2) Мир создан Богом премудро и прекрасно. Всякое бытие в этом мире (и наше собственное, в том числе) есть благо. Мы должны прославлять и благодарить Бога за «дар существования», которым Он наделил нас и окружающий нас мир.
3) Человек есть особое творение Божие, отличное от всякой другой твари. Он есть «венец Творения», его «наивысшее» и наисовершеннейшее проявление. Человек наделён особыми дарами («образом и подобием Божиим») и поставлен для управления всей остальной тварью как «наместник» Бога в сотворённом Им мире.
Что касается более подробного, чем в книге Бытия, описания фактов Творения, то здесь свв. отцы IV – V вв. опирались на естественно-научные представления своего времени, которые неизбежно кажутся устаревшими (по крайней мере, в некоторых аспектах) в свете наших современных знаний о Природе. Так, например, св. преп. Ефрем Сирин [70] представлял себе мир состоящим из четырёх «стихий» – земли, воды, огня и воздуха, а свт. Иоанн Златоуст [76] полагал, что Земля неким чудесным образом покоится на воде{1} . Протоиерей Глеб Каледа [55] настаивал на различении (особенно важном для патрологии) таких понятий как миропредставление и мировоззрение, в известном смысле аналогичном выделению в корпусе сочинений Аристотеля таких произведений как «Физика» и «Метафизика». Миропредставление («физика») – это система конкретных знаний о тварном мире, его структуре, функционировании и истории, создаваемая на основе наблюдений за конкрентными эмпирическими феноменами; тогда как мировоззрение («метафизика») – это комплекс представлений о последних началах этого мира, причинах и целях его существования, о роли человека в мире. «Мировоззрение современных христиан – то же, что мировоззрение свт. Василия Великого и апостола Павла, но наше миропредставление отличается не только от их миропредставления, но и от взгляда людей начала XX века» [55, стр. 90]. Вполне соглашаясь с данной мыслью о. Глеба, я думаю, что творения свв. отцов на самом деле должны восприниматься нами скорее как учебник, а не как справочник. Они учат нас тому, как мы должны мыслить, а не тому, что мы должны мыслить по тому или другому конкретному вопросу. И если, например, свт. Василий Великий интерпретировал Священное Писание на основе данных науки своего времени, а «нам следует думать так же» [31, стр. 5], то это значит, что мы должны интерпретировать Священное Писание в свете науки своего времени, а не времени свт. Василия Великого.
В связи с новейшей полемикой вокруг Шестоднева особенно интересным представляется вопрос о том, как свв. отцы оценивали продолжительность «дней» Творения. Длительность любых интервалов времени («дней», «часов», «суток» и т. д.), всегда определяется процедурой измерения. То, что «дни» Творения (по крайней мере, три первых «дня») не могли измеряться так, как мы сегодня измеряем астрономические сутки (по положению Солнца на небосводе), вполне недвусмысленно написано в самой книге Бытия, где указывается, что Солнце «для знамений, и времён, и дней, и годов» (Быт 1:14) было сотворено Богом лишь на четвёртый «день». Свв. отцы «золотого века» понимали, что экстраполяция «обычных» способов измерения времени в далёкое прошлое, необходимая для определения длительности «дней» Творения, представляет собой серьёзную проблему. Так, свт. Григорий Нисский [74] связывал возможность подобной экстраполяции с предполагаемым «круговым обтеканием тверди» первичным «мировым светом» (т.е. светом, сотворенным в первый «день» Творения еще до возникновения Солнца), а свт. Василий Великий [72] и св. преп. Ефрем Сирин [70] – с периодической пульсацией этого света. Но уже св. блаженный Августин [65] смог возвыситься до понимания относительности времени. Ему был известен тот факт, что Земля имеет форму шара и, когда в одном месте Земли день, в другом может быть ночь и наоборот («О книге Бытия буквально», кн. 1, гл. X), а XVI глава той же книги специально посвящена опровержению той «хронологической модели», которую исповедовали свт. Василий Великий и св. преп. Ефрем Сирин (его старшие современники).
И если уж пытаться выделить в этом разнобое мнений некую «православную святоотеческую традицию», то она, вероятно, сведётся к тому, что мы не знаем, сколько продолжались «дни» Творения, и вопрос этот вообще не имеет смысла: Шестоднев задаёт нам лишь порядок событий Творения и ничего не говорит о том, сколько времени отделяет одно из этих событий от другого. Подобное «порядковое» восприятие времени (характерное, кстати, для современной стратиграфии – науки о геологическом времени [17]) можно найти и в Священном Писании Нового Завета: «У Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день» (2 Петр 3:8).
Лишь естествознание XX в. снабдило нас способами измерения времени, которые можно экстраполировать в доисторическое прошлое (расширение Вселенной, радиоактивный распад изотопов, термолюминесценция минералов). И только эти научные данные со всей доказательной силой, свойственной науке, свидетельствуют о том, что время, прошедшее от начала мира до сотворения человека, было во много раз более долгим, чем вся последующая история человечества. Православной же святоотеческой традиции в отношении этих данных пока не существует (хочется надеяться, что только «пока»).
Вообще, можно заметить, что взгляды на Творение св. блаженного Августина несколько выделяются среди всех святоотеческих толкований Шестоднева. В силу этого они, вероятно, заслуживают отдельного рассмотрения. При попытке понять, чтó же думал св. блаженный Августин о сотворении мира, естественно обратиться прежде всего к его работе, носящей название «О книге Бытия буквально». И тут сразу же выясняется довольно странный факт: оказывается, что у св. блаженного Августина есть два разных произведения с таким названием! Одно из них [67], написанное (точнее, начатое) в 393 г., имеет подзаголовок «Книга неоконченная», тогда как второе [65; 66], превышающее по объёму первое почти в 10 раз, было написано много позже – в 401 – 402 гг. Создаётся впечатление, что в ходе работы над толкованием книги Бытия св. блаженный Августин натолкнулся на некую проблему, заставившую его отложить начатый труд. Решение этой проблемы было найдено лишь много лет спустя, но в его свете св. блаженный Августин совершенно по-новому увидел и осознал библейский текст, что и побудило его начать свой труд заново. Что же это была за проблема?
В работе 401 – 402 гг. просматривается вопрос, к которому автор возвращается многократно, снова и снова отвечая на него, и, скорее всего, именно с ним можно связать ту «нелинейность» в осмыслении книги Бытия св. блаженным Августином, о которой идёт речь. Вопрос этот есть вопрос о согласовании Шестоднева (Быт 1:1–2:3) с двумя другими местами Священного Писания: стихом из книги Премудрости Иисуса, сына Сирахова (Сир 18:1) и словами Христа из Евангелия от Иоанна (Ин 5:17).
По мнению св. блаженного Августина в словах «Qui vivit in aeternum creavit omnia simul» (Сир 18:1) можно усмотреть противоречие с Шестодневом, где творение мира описывается как процесс, растянутый во времени. Русский синодальный перевод этого стиха («Всё вообще создал Живущий во веки») не обнаруживает такого противоречия, но св. блаженный Августин трактует слова «creavit omnia simul» (в оригинале «ἔκτισεν τὰ πάντα κοινῇ») не в смысле всеобщности, как это делает русский перевод («создал всё вообще»), а в смысле одновременности, благодаря чему текст самого св. блаженного Августина на русский язык переводится как «создал всё разом» [65, стр. 275; 66, стр. 37]. Что же касается слов из Евангелия от Иоанна («Отец Мой доныне делает, и Я делаю»), то противоречие здесь можно увидеть с Быт 2:2, где говорится, что после шести «дней» Творения Бог «почил в день седьмый от всех дел Своих, которые делал», и по мнению большинства толкователей этот седьмой «день» божественного «покоя» продолжается и до настоящего времени.
Для того, чтобы понять, как св. блаженный Августин разрешает описанные противоречия, необходимо прежде всего более подробно рассмотреть его концепцию времени, о которой кратко говорилось выше. Рассуждения о времени составляют довольно значительную по объёму часть «Исповеди» св. блаженного Августина (главы 10 – 30 книги XI) [63], написанной около 400 г., т. е. незадолго до начала возобновления работы над толкованием книги Бытия, и историки философии рассматривают этот фрагмент «Исповеди» как одно из глубочайших за всю историю человечества сочинений о времени [39]. Понимание св. блаженным Августином сущности времени коренным образом отличается от тех «наивных» представлений, которые прочно утвердились в сознании европейцев со времён И. Ньютона и продолжают господствовать в нём до сего дня. Время по Ньютону – это абсолютная, самобытная, ни от чего не зависящая субстанция, в которую как бы «погружены» все процессы, протекающие в мире, и относительно которой они, собственно, и «текут». Для блаженного же Августина время само определяется происходящими процессами и каждый процесс – это и есть по существу отдельное время: «Творения эти находятся в постоянной видоизменяемости, так что изменяемость эта даёт себя чувствовать в мире изменением времён <во множественном числе! – А. Г.>, которые мы наблюдаем и исчисляем; ибо от этой видоизменяемости, которой подлежит всё сотворённое, происходят самые времена, когда вещи в своих видах и образах постоянно изменяются и разнообразятся; и это с тех пор, как получили они своё образование из первобытной (земли), не имевшей ни вида, ни образа» [63, стр. 347]{2} . То же понимание времени сохраняется у св блаженного Августина и в работе 401 – 402 гг.: «Ибо если бы не было никакого движения духовной ли или телесной твари, благодаря которому будущее через настоящее следует за прошедшим, то не было бы никакого и времени. А само собою понятно, что тварь не могла двигаться, когда её ещё не было. Отсюда, скорее время началось от твари, чем – тварь от времени, а и то, и другая – от Бога» [66, стр. 9].
Отсюда можно понять, насколько далёк был св. блаженный Августин от того, чтобы трактовать шесть «дней» Творения как шесть астрономических суток. Небесные светила, сотворённые Богом на четвёртый «день» (Быт 1:14–19), согласно св. блаженному Августину, не просто служат для измерения времени, но они порождают самое время. Следовательно, до их сотворения время было другим, и только это особое, во многом загадочное «время Творения» можно экстраполировать из первых трёх «дней» на последующие, тогда как обратная экстраполяция астрономического времени на «дни», в которые ещё не существовало светил, невозможна: «Таким образом, чрез все эти дни проходит один день, который надобно понимать не в смысле обыкновенных дней, которые, как мы видим, определяются и исчисляются обращением солнца, а некоторым другим образом, какого не могут быть чужды три первые дня, исчисляемые до создания светил. И такой порядок продолжался не до четвёртого дня, с которого мы могли бы мыслить обыкновенные уже дни, а до шестого и седьмого…» [65, стр. 267]. Именно с точки зрения, опирающейся на наше «обыкновенное», т. е. исчисляемое астрономическими процессами, время, шесть «дней Творения» и представляются единым мгновением: «Ибо о Творце, о Котором Писание передаёт нам, что Он совершил все дела Свои в шесть дней, в другом месте и, конечно, не в разлад с этим, написано, что Он созда вся обще (Сир. XVIII, 1). Отсюда, Кто создал всё разом, Тот разом же сотворил и те шесть или семь дней, или лучше – один, шесть или семь раз повторившийся день» [65, стр. 275].
Что же представляло собой это «мгновенное» творение, и как можно представить себе бытие мира во времени, которое с одной точки зрения не имело никакой длительности, а с другой – длилось шесть или семь «дней»? Согласно концепции св. блаженного Августина это было творение как бы «в потенции», творение не самих материальных вещей, а их «идей» (в платоновском смысле{3}) или замыслов Божиих. Временнáя же последовательность, описанная в Шестодневе, отражает не реальный исторический (в привычном для нас времени) ход событий, а их причинную связь или субстанциональную обусловленность: суша и море возникают из неоформленной материи, растения – из земли, водные животные – из воды и т. д. «Вот почему, обращаясь своею мыслью к первому творению, от которого Бог почил в седьмой день, мы должны представлять себе те дни не как нынешние солнечные дни, а самое [творческое] действие – не в том смысле, как действует Бог теперь, во времени, а в том, как действовал Он в тот момент, с которого началось время, как сотворил Он всё разом, сообщив ему и самый порядок в смысле не промежутков времени, а связи причин, так, чтобы всё, сотворённое Им разом, совершилось и в течение шестиричного числа того дня» [66, стр. 10].
Эта система божественных идей явилась программой для последующего бытия мира, которое мыслилось св. блаженным Августином не статичным, а изменяющимся: «…Бог без всякой перемены в Себе творит изменяемое и временное» [65, стр. 143]. Изменения, впрочем, происходят не сами по себе, а при непосредственном участии Самого Бога: «Ибо могущество Творца и сила Всемогущего и Вседержащего служит причиною существования всей твари; если бы эта сила перестала когда-нибудь управлять, вместе с тем перестали бы существовать и его виды, и вся бы природа погибла. Когда архитектор, окончив здание, оставляет его, произведённая им постройка продолжает существовать и без него; не то с миром: он не мог бы остаться и на мгновение ока, если бы Бог лишил его Своего промышления» [65, стр. 249].
Именно эта промыслительная деятельность Бога, согласно концепции св. блаженного Августина, и имелась в виду в словах «Отец Мой доныне делает и Я делаю» (Ин 5:17), тогда как божественный «покой» седьмого «дня Творения» означал завершённость «идеального» и мгновенного творения, совершившегося фактически ещё до начала нашего видимого мира и нашего времени. И если описанием этого «первого творения» является Шестоднев (Быт 1:1–2:3), то в последующих стихах 2-ой главы книги Бытия описывается уже «второе» или «промыслительное» творение мира. Вот, например, как блаженный Августин толкует Быт 2:9: «Итак, раз говорится: прозябе еще от земли всякое древо красное в видение и доброе в снедь, ясно, что Бог иначе произвёл от земли дерево теперь, и иначе тогда, когда земля в третий день произвела былие травное, сеющее семя по роду своему, и древо плодовитое по роду. Выражение: прозябе еще означает: «сверх того, чтó уже Он произвёл», тогда – в возможности и причинно, в действии, имеющим отношение к сотворению разом всего, по совершении чего Бог почил в седьмой день, теперь же – видимым образом, в действии, имеющем отношение к течению времён, к тому, как Он доселе делает» [66, стр. 38]. Или о сотворении животных (Быт 2:19): «Отсюда слова И созда Бог еще от земли вся звери сельныя и вся птицы небесныя сказаны здесь, надобно думать, не почему-либо иному, как потому, что земля произвела уже полевых зверей в шестой день, а воды птиц небесных – в пятый; следовательно, иначе тогда, и иначе теперь: тогда – в возможности и причинно, как приличествовало тому действию, которым сотворено всё разом и от которого Бог почил в седьмой день; а теперь – так, как видим мы то, чтó Он творит в течение времени, т. е. как доселе делает» [66, стр. 40]. Аналогично о сотворении человека: «Отсюда оба они <мужчина и женщина – А. Г.> иначе [сотворены] тогда, и иначе теперь: тогда – в возможности, вложенной в мир по слову Божию как бы в семени, ещё тогда, когда Бог разом сотворил всё, от чего почил в седьмой день и из чего в порядке веков возникает всё в свойственное каждому время; а теперь – в действии, приличествующем времени, – в том действии, которое Бог совершает доселе, когда в своё время надлежало произойти Адаму из персти земной, а жене – из ребра мужа» [66, стр. 40 – 41].
Таким образом, всё, творимое Богом «во времени» (промысел об изменяющемся мире), оказывается реализацией или развёртыванием изначальной «программы Шестоднева» и может быть описано латинским словом «evolutio», которое означало (например, у Цицерона) разворачивание свитка или раскрывание книги, т. е. чтение{4} (последовательную актуализацию прежде скрытой информации). Сам св. блаженный Августин всё же, кажется, не употреблял этого слова, но тем не менее, современные историки биологии [102] справедливо видят в нём одного из провозвестников эволюционизма. Из бытующих ныне теорий биологической эволюции взгляды св. блаженного Августина ближе всего к теории номогенеза, разработанной в начале XX в. Л. С. Бергом [4]. В отличие от дарвинизма номогенез видит в биологической эволюции закономерный процесс, т. е. развитие на основе жёстких и непреложных законов. Эволюция всего органического мира, согласно теории Берга, может быть уподоблена индивидуальному развитию одного организма: как в ДНК зиготы заложена полная программа онтогенеза, которая в дальнейшем лишь реализуется или воплощается в теле организма, так и в начальных простейших формах жизни уже была заложена вся программа дальнейшего развития всего органического мира. Наблюдаемая эволюция по отношению к этой программе является её реализацией, а сама программа по отношению к эволюции выступает как совокупность законов, её обуславливающих и направляющих. В концепции творения св. блаженного Августина аналогия с индивидуальным развитием организма (онтогенезом) просматривается столь же явственно, как и в номогенетической теории эволюции: «Но как в зерне невидимо заключается разом всё, что с течением времени вырастает в дерево, так точно и о самом мире, когда Бог сотворил всё разом, мы должны мыслить, что он имел всё, что в нём и с ним было сотворено, когда явился день: не только небо с солнцем, луною и светилами, вид которых остаётся при круговом движении, землю и бездны, которые претерпевают как бы непостоянные движения и представляют другую, низшую часть мира, но и всё то, что в возможности и причинно производит из себя вода и земля, раньше, чем оно с течением времени выходит наружу, как это нам известно уже из тех дел, которые Бог доселе делает» [66, стр. 32 – 33].
Кроме св. блаженного Августина предтечей эволюционизма, причём в его номогенетической интерпретации, называют также свт. Григория Нисского [39; 102]. Хотя в его толковании Шестоднева [74] можно уловить лишь отдалённые намёки на эволюционное понимание Творения, но другое сочинение свт. Григория «Об устроении человека» [75] говорит об этом вполне определённо. По мысли святителя в человеке происходит соединение природного – животного и даже растительного – начала с божественным и духовным, причём для достижения этого соединения природа предварительно проходит путь «совершенствования», пока не достигнет высочайшего уровня, достойного того, чтобы «сраствориться» с духовной сущностью: «…Природа каким-то путем последовательно восходила к совершенству. Ибо всякого вида души срастворены в этом словесном животном – человеке. По естественному виду души он питается; с растительной же силою соединена чувствительная, по природе своей занимающая середину между умопредставляемой и вещественной сущностью, в такой мере грубейшая первой, в какой она чище последней. Потом с тем, что есть тонкого и светоносного в естестве чувствующем, совершается некое освоение и срастворение умопредставляемой сущности, чтобы человек составлен был из этих трёх естеств» [75, стр. 100 – 101]. Это совершенствование природы может происходить «эволюционным» путём, т. е. не в результате создания новых существ из ничего, а в результате преобразования уже созданного: «…Как признаём силу Божией воли достаточной для создания существ из несуществовавшего, так преобразование созданного возводя к той же силе, верим не чему-либо невероятному» [75, стр. 173 – 174]. Однако в основании этого процесса совершенствования природы (так же, как в концепции св. блаженного Августина) лежит Божий замысел, направляющий его и управляющий им: «…Всё уже было в возможности при первом устремлении Божием к творению, как бы от вложенной некоей силы, осеменяющей бытие вселенной, но в действительности не было ещё каждой в отдельности вещи» [74, стр. 21].
К выводам, близким (но не тождественным!) с вышеизложенными относительно взглядов св. блаженного Августина на Творение приходит католический богослов К. Каннингем в 6-ой главе своей книги, недавно опубликованной на русском языке [33]. Согласно Каннингему св. блаженный Августин мыслил Творение как происходящее вообще вне времени: «Согласно Августину, самое время было сотворено, а потому мы, как существа сотворённые, воспринимаем вещи как находящиеся во времени. Но подобного рода темпоральные термины совершенно неприменимы к Богу – в противном случае речь шла бы не о творении ex nihilo (из ничего), а о создании мира путём структурирования уже существующего материала (т. е. о возврате к язычеству)» [33, стр. 367]. Как было показано выше, время, согласно св. блаженному Августину, действительно было сотворено (ибо оно и есть те процессы, которые протекают в сотворённом мире), однако это не исключает того обстоятельства, что Творение продолжалось (во времени!) и после сотворения времени. Конечно, оно уже не было творением ex nihilo и его действительно можно назвать «структурированием уже существующего материала», но такое Творение прямо засвидетельствовано в книге Бытия, например, когда речь идёт о сотворении человека: «И создал Господь Бог человека из праха земного…» (Быт. 2:7). Понятно, что это свидетельство Священного Писания не есть «возврат к язычеству» и св. блаженный Августин был бесконечно далёк от того, чтобы отрицать такое Творение. Он говорил лишь о том, что это «второе» Творение надо отличать от «первого», происходившего вне времени (во всяком случае, вне того времени, в котором мы живём сейчас) и описанного в 1-ой главе книги Бытия. Впрочем, главный вывод, который делает Каннингем из своего анализа наследия св. блаженного Августина, вполне созвучен идеям, развиваемым в настоящей работе. «Августин был не единственным отцом церкви, который мыслил творение в терминах того, что мы иначе не называем, как определенной версией эволюции», – пишет он [33, стр. 369] и дальше приводит многочисленные цитаты из свт. Григория Нисского, свидетельствующие о том, что взгляды, этого отца Церкви IV века были также очень близки к эволюционной теории номогенеза.
3. Толкования Шестоднева в новейшее время
Тот культурный феномен, который мы сегодня называем естествознанием, зародился в Западной Европе на рубеже XIII и XIV веков в рамках католического богословия, точнее, тогдашней фазы его развития, именуемой схоластикой. По существу, исторически первой наукой (в современном смысле этого слова) было богословие [12; 51; 61; 107], а сведения, составившие в дальнейшем фундамент конкретных естественных наук, входили в состав богословской дисциплины, именовавшейся естественным богословием (“theologia naturalis”), и считались источником знаний о Боге и средством приближения к Нему. Эти так называемые «конкретные науки» (физика, химия, биология, геология) отпочковались от богословия в ходе того процесса дифференциации, который характерен для развития науки вообще.
Одну из главных своих задач схоластика видела в доказательстве бытия Бога, рациональном обосновании истин христианской веры. Схоласты пытались придать богословию убедительную или доказательную силу, заставить согласиться с его положениями даже такого человека, который a priori этого не хочет. На службу этой сверхзадачи были поставлены и начала естественных наук, зарождавшиеся в рамках естественного богословия{5}. Однако с православной точки зрения данная программа заведомо была бесперспективной, ибо христианство апеллирует к свободному выбору человека. Бог не навязывает нам Себя принудительным путём, Он хочет от нас «подвига веры», т. е. определённого акта нашей свободной воли. Именно поэтому вера традиционно считается одной из главных христианских добродетелей и ставится в нравственную заслугу человеку, который ею обладает. Все же «доказательства» бытия Божия, разработанные в рамках схоластической традиции, оказались недейственными: мне не известно ни одного случая, чтобы они кого-нибудь и в чём-нибудь убедили, т. е. выполнили свою основную, доказательную функцию.
С начала XVII в. естествознание всё больше ориентируется на поиски причин природных явлений. Основы этой (как бы мы сейчас сказали) «исследовательской программы» были заложены И. Кеплером, и поистине грандиозным её триумфом стала теория всемирного тяготения И. Ньютона, объяснившая устройство Солнечной системы [13]. Сам Ньютон затруднялся с объяснением стабильности орбит, по которым планеты вращаются вокруг Солнца, и считал, что эта стабильность есть результат непосредственного вмешательства Бога в мировые процессы. Однако в конце XVIII в. П. С. Лаплас, развив математическую теорию возмущений, показал, что для поддержания стабильности планетарных орбит достаточно самих законов Ньютона [9]. Таким образом, примерно к XIX веку выяснилось, что наука может существовать совершенно независимо от богословия: можно быть, например, хорошим физиком и при этом исповедовать атеизм, т. е. вообще не верить в Бога. До осознания теоремы Гёделя, утверждающей существование в рамках любой достаточно богатой системы аксиом утверждений, которые нельзя ни доказать, ни опровергнуть, в те времена было ещё очень далеко (будучи доказанной в 1931 г., она даже и в XX веке вызвала впечатление взорвавшейся бомбы). Поэтому тот факт, что наука оказалась неспособной доказать существование Бога, был истолкован в виде тезиса «Наука доказала, что Бога нет», принятого в дальнейшем на вооружение государственной атеистической пропагандой в большевистской России.
«Властители дум» научной революции XVII – XVIII вв. (Кеплер, Галилей, Ньютон, Лаплас) были физиками и астрономами, тогда как биология в начале XIX в. оставалась чуть ли не единственным прибежищем естественного богословия. Так, в 1802 г. был опубликован учебник для богословских факультетов университетов У. Пэйли «Естественная теология», который по собственному признанию Ч. Дарвина оказал на него в молодости огромное влияние [52; 103; 116]. Теория, развиваемая в этой книге, имеет в действительности мало общего с христианской теологией вообще и с естественной теологией в частности. Она сводится к констатации «идеальной приспособленности» живых организмов к условиям среды их обитания и использованию этого «факта» для «телеологического доказательства» бытия Божия. Но именно благодаря этой книге Дарвин усвоил интерес к теме адаптации, и его собственная теория может рассматриваться как попытка «естественного» объяснения феномена приспособленности, т. е. «изгнания Бога» также и из сферы биологии.
Не удивительно, что многими современниками Дарвина его теория была воспринята как принципиально атеистическая, противостоящая любым представлениям о Творце и Творении, и это мнение продолжает поддерживаться атеистически настроенными учёными и философами вплоть до настоящего времени. В Советском Союзе в официальной коммунистической пропаганде слова «марксизм», «атеизм» и «дарвинизм» часто употреблялись вместе и воспринимались как синонимы, в особенности в среде людей, не очень высоко образованных. В наше время Р. Докинз полагает, что только теория Дарвина дала возможность атеизму стать интеллектуально завершённым мировоззрением [26]. А Д. Деннетт сравнивает теорию Дарвина с некоей универсальной кислотой, способной растворить любые твёрдые предметы, которые в свете данной метафоры являются аналогами «религиозных предрассудков» [111].
Однако уже с самого начала существования теории Дарвина бытовало также мнение об отсутствии каких-либо серьёзных противоречий между ней и описанием Творения, которое даёт нам Шестоднев. Сам Дарвин писал в заключительной главе «Происхождения видов»: «Я не вижу достаточного основания, почему бы воззрения, излагаемые в этой книге, могли задевать чьё-либо религиозное чувство» [21, стр. 413]. А рассказывая в «Автобиографии» о том, какой успех имело 1-е издание его работы, он замечает: «Даже на древнееврейском языке появился очерк о ней, доказывающий, что моя теория содержится в Ветхом завете!»{6} [20, стр. 132]. Из ранних сторонников (фактически современников) Дарвина на чисто христианской почве можно упомянуть также англиканского священника Чарльза Кингсли, духовника королевы Виктории [7] и кардинала Джона Генри Ньюмена [33]. В качестве апологии дарвинизма, написанной на русском языке и с православных позиций, можно рассматривать юмористическое стихотворение А. К. Толстого «Послание к М. Н. Лонгинову о дарвинисме» [94], появившееся в 1872 г.
С тех пор и до настоящего времени соотношение биологической эволюции и Шестоднева находится в центре широкой и интенсивной дискуссии, которая выглядит как настоящая война мнений, кажущихся непримиримыми. В России эта дискуссия особенно обострилась после падения коммунистического режима, когда были сняты идеологические запреты на открытое обсуждение богословских проблем. Для того, чтобы как-то ориентироваться в существующем «бурном море» мысли, представляется разумным выделить в нём пять основных направлений, которые последовательно рассматриваются ниже.
3.1. Фабулизм
Понятно, что атеизм, уходящий своими корнями в глубокую древность (ср. Пс 13:1), не предполагает a priori никакой истины, стоящей за библейским текстом. Большинство современных атеистов рассматривает книгу Бытия как собрание мифов, в том числе мифов космогонических, отражающих представления древних евреев о происхождении и устройстве Вселенной, и неизбежно фантастических, т. е. имеющих весьма мало общего с действительностью, раскрываемой нами в научном познании.
Вместе с тем, близкое представление о том, что библейское повествование о сотворении мира (Быт 1 – 2) не содержит в себе никакой исторической истины, существует и в современном христианстве. Концепция эта может быть названа фабулизмом (от лат. “fabula” - «басня», «сказка»), ибо она рассматривает Шестоднев как своего рода нравоучительную басню. Фабулизм утверждает, что в намерения автора книги Бытия не входило сообщать читателям какие-либо сведения по истории Земли и жизни на ней (точно так же, например, как И. А. Крылов совсем не утверждал, что события, описанные им в басне «Лебедь, Рак и Щука» действительно имели место в истории) и, таким образом, единственный смысл Шестоднева – нравоучительный: из библейского повествования читатели должны усвоить лишь то, что всё, видимое ими, есть Божие творение и прославлять Бога за это творческое деяние.
Выражение подобных идей можно увидеть уже в произведениях Оригена: «…Я думаю, никто не сомневается, что этот рассказ образно указывает на некоторые тайны через историю только мнимую, но не происходившую телесным образом» [49, стр. 274]. Хотя конкретно речь здесь идёт не о Шестодневе, а о повествовании Быт 3:8, но в принципе данный подход может быть распространён на любой священный текст и от него берёт своё начало «александрийская» традиция аллегорического толкования Священного Писания. Рецепция этой традиции Церковью в последующие века долго не доходила до тех крайних форм, которые присущи фабулизму, уравновешиваясь традицией так называемого «буквального» толкования: аллегорический смысл событий, описываемых в Библии, не исключал, а наоборот, подразумевал то, что сами эти события действительно происходили в истории. И лишь в XX в. аллегорическая традиция породила столь экстремистское направление в экзегетике, как фабулизм, ныне всё шире захватывающее христианское сознание.
В русскоязычном православии провозвестником фабулизма ещё в 1930-е годы явился С. Л. Франк [97], выдвинувший идею о том, что религия и наука не нуждаются во взаимном согласовании, поскольку они не имеют друг с другом ничего общего, их «предметы рассмотрения» совершенно различны и, образно говоря, нигде не пересекаются. Конкретные выводы из этой идеи в отношении экзегетики Шестоднева прозвучали в докладе «Ветхозаветная библейская критика», с которым в 1944 г. выступил А. В. Карташёв в Свято-Сергиевском православном богословском институте в Париже: «Бесплодно и нецелесообразно продолжать искусственные, натянутые сближения Моисеева сказания о шестидневном миротворении с бывшими, настоящими и будущими, текущими и меняющимися научными теориями и гипотезами, ибо обязательна для нас в этом лишь глубочайшая мудрость догматического учения об абсолютно Едином Начале всего, о Творце всего из ничего <…> и о даровании Творцом этой созданной так называемой “материи” сил и законов, по которым уже она сама в закономерной постепенности, в положенные времена и сроки раскрывает полноту космической жизни <…>. Вся остальная словесная плоть Моисеева повествования есть только скромное повторение праотеческих колыбельных сказаний первобытного человечества, что принадлежит к области так называемого фольклора со свойственными последнему мифологемными пережитками, былинно-богатырскими стилизациями и преувеличенными чудесами <...>» [34, стр. 57 – 58].
В 1981 г. близкие к этой позиции представления были сформулированы папой Иоанном Павлом II в обращении к Папской Академии Наук «Космология и фундаментальная физика»: «Сама Библия рассказывает нам о происхождении и устройстве Вселенной не для того, чтобы представить нам научный трактат, но для того, чтобы ясно показать, каким должно быть правильное отношение человека к Богу и Вселенной. Священное Писание хочет просто провозгласить, что мир был сотворён Богом, и чтобы научить нас этой истине, оно использует те космологические термины, которые употреблялись во времена его автора. Равным образом, Священная Книга желает сообщить людям, что наш мир был сотворён не в качестве местопребывания богов, как учили прочие космогонии и космологии, но для того, чтобы служить человеку и славе Божьей. Всякое же иное учение о происхождении и строении Вселенной чуждо целям Библии, которая хочет научить нас не тому, как устроены небеса, но тому, как человек может на небеса попасть» [цит. по 33, стp. 366]. В настоящее время на Западе эту идею развивают естествоиспытатели, позиционирующие себя как агностиков [112], а также (видимо, руководствуясь принципом “Roma locuta, causa finita”) многие католические богословы [13; 33; 37]. В таком же духе выступают и некоторые протестанты [см. библиографию в 98]. В Русской Православной Церкви идеи фабулизма, кажется, не имеют ещё широкого распространения, хотя и высказываются в отдельных публикациях [87]. Очень ясное и последовательное изложение фабулистской герменевтической концепции можно найти в последней главе недавно опубликованной книги священника Антония Лакирева [78].
Можно согласиться с фабулистами в том, что Священное Писание – это собрание очень разнородных текстов, написанных разными авторами, в разные времена, в рамках разных культур и на разных языках. Поэтому разные части Библии написаны в разных жанрах и некоторые из них вполне могли быть написаны в жанре басни. Однако в отношении Шестоднева подобное «внеисторическое» толкование, по-видимому, не соответствует православной традиции. Бог открывает Себя в истории – таков один из очевидных принципов православного богословия [77], который естественно порождает концепцию священной истории как области знания, подлежащей вéдению и религии, и науки (поскольку история есть наука). С XIX в. по настоящее время священная история рассматривалась как обязательная составная часть систематического православного богословия и, соответственно, – всех уровней богословского образования от школьных учебников по закону Божию до курсов, читаемых в духовных академиях. Общим местом православной герменевтики является классификация книг Священного Писания, включающая в качестве одного из подразделений книги исторические, т. е. такие, которые описывают в хронологическом порядке события, реально происходившие в прошлом по отношению ко времени написания самой книги. И хотя книга Бытия в рамках этой традиции (по непонятным для меня причинам) обычно рассматривается как законоположительная, а не как историческая книга [см., например, 47], но при чтении её кажется очевидным, что перед нами – историческое повествование, описание событий, действительно имевших место в прошлом. В 1-ой главе книги Бытия эти события распределены по «дням», а сами «дни» занумерованы и каждый из них имеет, к тому же, свой «вечер» и своё «утро». Временнáя связность повествования подчёркивается также многократным повторением союза «и», с которого начинаются все (!) стихи 1-ой главы кроме 1-го, 2-го и 30-го. Всё это обеспечивает как бы погружение читателя в реальный поток времени и позволяет относить Шестоднев к жанру исторической хроники, т. е. такого повествования о прошлом, в котором излагаются реально (по крайне мере, с точки зрения автора) происходившие события, и при этом порядок их изложения, по крайней мере, в общих чертах так же соответствует реальному порядку их следования друг за другом во времени. Как уже отмечалось в разделе 2, такое же видение Шестоднева было характерно для свв. отцов Церкви IV – V вв.
Таким образом, в рамках православной герменевтической традиции книга Бытия может рассматриваться как книга, написанная в жанре исторической хроники (а отнюдь не басни), т. е. излагающая Откровение, преподанное нам через события, которые действительно имели место в истории. И если основная её часть касается истории человечества, то 1-ая глава имеет общий предмет с естественной историей, порождая необходимость сопоставления с истинами, добытыми науками естественно-исторического цикла: космологией, геологией, палеонтологией.
3.2. Креационизм
Слово «креационизм» образовано от латинского “creatio”, что значит «творение» или «создание». Соглашаясь с существованием непримиримого противоречия между наукой и религией, креационисты (в отличие от атеистов) принимают сторону религии в этом мнимом столкновении и стараются опровергнуть результаты научных исследований. Если попытаться выделить некую общую «платформу», общую систему взглядов, свойственную всем креационистам, то можно легко увидеть, что «платформа» эта, во-первых, чрезвычайно бедна содержанием, а во-вторых, носит чисто негативный характер. По существу она сводится к отрицанию эволюционного процесса. При чтении креационистской литературы складывается впечатление, что её авторами движет ничто иное, как ненависть к самому понятию эволюции, т. е. их концепция имеет не рациональную, а чисто эмоциональную основу. Согласно взглядам креационистов Бог очень быстро (почти мгновенно) создал Вселенную, которая с тех пор пребывает неизменной. А все доказательства, поставляемые наукой в пользу существования эволюции, являются ложными и должны быть опровергнуты (именно поэтому креационизм должен рассматриваться как учение антинаучное). На вопрос: «А что же всё-таки было, если не было эволюции?» разные креационисты отвечают по-разному, а в худшем случае вообще ничего не отвечают, оставляя вопрошающего один на один перед лицом возникающих противоречий. Например, с одной стороны, они отрицают возможность происхождения жизни из неорганической материи, а с другой, – возможность происхождения человека от каких-либо животных предков. Соединение этих двух положений порождает совершенно парадоксальную ситуацию: получается, что Бог мог создать из глины человека, а бактерию – не мог. Однако сами креационисты как бы не замечают данного противоречия и никогда даже не упоминают о его существовании.
Как показывает знаменитый диспут Т. Гексли с англиканским епископом С. Уилберфорсом [33], креационизм можно проследить в прошлое вплоть до появления работ Дарвина. Поэтому сейчас, наверное, уже трудно сказать, кто был первым креационистом. Резкое усиление активности креационистов начинается в протестантских кругах США с 20-ых годов прошлого века, когда в штате Теннеси прошёл даже судебный процесс, связанный с преподаванием эволюционного учения в средней школе. Периодически подобные процессы возникают вплоть до настоящего времени [25], свидетельствуя о продолжающейся высокой активности протестантских креационистов в США [24]. В той же стране в 70-ых – 80-ых годах XX в. жил и работал православный иеромонах Серафим Роуз, известный своими креационистскими трудами [31; 50]. В 1980-ых годах креационистская литература начала понемногу проникать в Россию, главным образом, из США и, конечно, эта литература была представлена работами американских протестантских фундаменталистов – Г. Морриса [45], Т. Ф. Хайнца [100] и др. С 90-ых годов начали появляться оригинальные работы русских православных креационистов [6; 11; 23; 38; 57; 79 – 81; 83; 85; 86; 104] – в основном, как реакция на «атеистический дарвинизм», искусственно насаждавшийся в предшествующие годы. На вопрос «Наука или религия?», задававшийся коммунистической пропагандой, русские православные верующие отвечали «Религия!», заявляя этим ответом свою оппозицию официальному атеизму и не замечая, что сама постановка вопроса была порочной (ибо подлинное научное исследование тварного мира не может вступать в противоречие с верой в его Творца; как научное исследование, так и религиозная вера имеют один и тот же идеал и одну и ту же цель – Истину). Сейчас это течение переживает время расцвета. Православные креационисты публикуют большое количество литературы, проявляют значительную активность на разного рода конференциях, а также в Интернете.
Во всём мире происходит борьба между «нормальной» биологией и креационизмом за влияние в сфере школьного образования. В 2004 г. итальянское правительство С. Берлускони попыталось запретить преподавание эволюционной теории в средней школе, но потерпело неудачу. В июне 2006 г. академии наук из 67 стран мира приняли декларацию (её текст опубликован в [2]) о необходимости изучения в школе теории эволюции. В ответ на это заявление Парламентская ассамблея Совета Европы в октябре 2007 г. приняла резолюцию № 1580 «Опасность креационизма для образования» [36]. В мае 2009 г. Российская Академия Наук присоединилась к заявлению 67 академий, хотя в итоговом решении Общего собрания РАН резолюция № 1580 не упоминалась [2]. И если в Западной Европе преподавание креационизма вместо «нормальной» биологии в средней школе только обсуждается [113], то в России его уже преподают в ряде школ [8].
Непродуманность и внутренняя противоречивость креационистской концепции особенно наглядно проявляется, если вопрос о существовании биологической эволюции поставить так, как его сформулировал{7} Дарвин в заголовке своего главного труда («Происхождение видов»). Достаточно типичным и характерным представляется, например, следующий диалог между эволюционистом (Э.) и креационистом (К.).
Э. Откуда взялись все те виды живых существ, которые мы во множестве видим вокруг себя?
К. Их сотворил Бог.
Э. Из чего Он их сотворил?
Ответить на этот вопрос «Из ничего» креационистам препятствует свидетельство Священного Писания, где о человеке, например, прямо говорится, что он был сотворён Богом «из праха земного» (Быт 2:7). А если допустить, что виды были созданы из чего-то, то возникает естественный вопрос, чем такое творение отличается от эволюции этого «чего-то». Поэтому продолжение диалога выглядит, как правило, примерно так:
К. Я не знаю, из чего Бог сотворил виды, но точно знаю, что не из других видов.
Э. Но как вы можете утверждать это, если вы не знаете, как происходил процесс Творения?
«…Твой контроль с какого права,
Был ли ты при сотвореньи?
Отчего б не понемногу
Введены во бытиё мы?
Иль не хочешь ли уж Богу
Ты предписывать приёмы?» [94, стр. 498].
Различные ответы на этот вопрос, которые можно найти в креационистской литературе, позволяют выделить в креационизме как бы два разных направления. Одно из них условно может быть названо «патрологическим», а другое – «научным».
Примечания
{1} Кстати, в православной гимнографии можно встретить и совершенно иное представление о положении Земли в мироздании: «Водрузивый на ничесом же землю повелением Твоим, и повесивый неодержимо тяготеющую, на недвижимем, Христе, камене заповедей Твоих, Церковь Твою утверди, едине Блаже и Человеколюбче» (воскресный канон 5-го гласа, ирмос 3-ей песни [48, стр. 122 – 123]).
{2} В новейшее время близкую концепцию развивали В. И. Вернадский [10] и С. В. Мейен [40; 42].
{3} Вообще св. блаженный Августин очень высоко оценивал философию Платона и считал, что «никто не приблизился к нам <христианам – А. Г.> более, чем философы его школы» [64, стр. 9; см. также 68].
{4} Разумеется, чтение вслух. Люди античности не умели читать «глазами», не произнося вслух написанного текста, так же, как большинство современных людей не может представить себе содержания музыкального произведения на основании только его нотной записи [1]. Тот же св. блаженный Августин уже на рубеже IV и V вв. по Р. Х. считал достойным специального упоминания и объяснения тот факт, что его учитель св. Амвросий Медиоланский читал книги не вслух, а «про себя» («Исповедь», VI, 3 [63]).
{5} Эта «схоластичность» задачи, изначально поставленной перед естественным богословием, привела в новейшее время к значительному искажению смысла и объёма самогó понятия «естественное богословие». Под этим термином стали понимать именно так называемые «доказательства» бытия Божия – даже те из них, которые не имеют никакого отношения к природному миру и изучающим его естественным наукам [см., например, 35].
{6} Имеется в виду книга Н. Галеви “תולדת האדם” («Родословие Адама»), изданная в России около 1875 г.
{7} Следует признать, что в этой формулировке – непреходящая заслуга Дарвина перед наукой, вне зависимости от того, соглашаемся ли мы или нет с тем ответом, который он дал на поставленный вопрос.
Продолжение следует.
воскресенье, 27 января 2019
Обозначенную в заголовке проблему можно выразить в виде сопоставления двух положений или двух утверждений, которые, с одной стороны, оба мне представляются, если не истинными, то, во всяком случае, похожими на истину, а с другой стороны, противоречащими друг другу.
Одно из этих положений в несколько упрощенной форме состоит в том, что история не знает сослагательного наклонения. А если его формулировать более аккуратно, то можно сказать, что употребление контрфактуалов, когда речь идёт об исторических событиях, представляется крайне нежелательным. Контрфактуал – это высказывание, которое имеет структуру типа «если..., то...», и при этом его предпосылка, т. е. часть, заключённая между словами «если» и «то», представляет собой заведомо ложное утверждение. Когда контрфактуал относится к событиям, происходившим в прошлом, то в него обычно вставляется частица «бы», придающая всему высказыванию характер сослагательного наклонения, но особой роли в логическом статусе таких высказываний эта частица не играет. Примером контрфактуала может служить фраза: «Если бы я вышел на 5 минут раньше, я бы не опоздал». Я, очевидно, вышел в то время, в которое я вышел, а не на пять минут раньше. Поэтому предпосылка «если бы я вышел на 5 минут раньше» очевидным образом является ложной.
Почему, собственно, такие утверждения нежелательны? В логике утверждения, содержащие конструкцию «если..., то...», называются импликациями. Импликация в логике трактуется как пропозициональная связка, которая определяется через соответствующую таблицу истинности, показывающую, какие истинностные значения принимает всё высказывание в целом в зависимости от значений атомарных высказываний, связанных этой самой импликацией (Клини, 1973). При этом, если предпосылка высказывания ложна и заключение ложно, то всё высказывание в целом истинно. А если предпосылка ложна, и заключение истинно, то всё высказывание в целом тоже истинно. Таким образом, при ложной предпосылке рассматриваемое утверждение оказывается истинным независимо от того, чтό из этой ложной предпосылки выводится. Утверждение «Если бы я вышел на 5 минут раньше, то я бы не опоздал», оказывается столь же истинным, как и утверждение «Если бы я вышел на 5 минут раньше, я бы опоздал всё равно». Поэтому такого рода утверждения представляются как бы не истинными и не ложными, а просто бессмысленными. Не понятно, зачем их вообще произносить, если они столь же истинны, как и их отрицания. В силу этого употребление такого рода утверждений представляется совершенно не желательным при описании каких-то исторических событий. Если бы какое-либо реально произошедшее историческое событие не произошло, то из этого можно вывести всё, что угодно. В кратком и афористичном выражении всё это обычно итожится в виде тезиса о том, что история не имеет сослагательного наклонения.
Но этому тезису можно противопоставить другой – тезис о том, что в истории существуют и действуют некие причины. Если мы говорим, что событие A является причиной события B, то это утверждение можно переформулировать в виде контрфактуала: «Если бы не произошло события A, то не произошло бы и события B». Таким образом, отказываясь от употребления котрфактуалов, мы должны отказаться и от рассмотрения каких бы то ни было причин в истории, потому что всякое высказывание о причинных связях исторических событий эквивалентно некоторому контрфактуалу. А отказываться от рассмотрения каких бы то ни было исторических причин на самом деле тоже как-то не хочется, и историки очень любят рассуждать о причинах тех или иных исторических событий. Например, кода я учился в школе, то в билетах к выпускному экзамену по истории был такой вопрос: причины победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Этот пример, как легко понять, далеко не единственный в исторической науке.
Конечно, существует и такое направление в истории как альтернативная история, которое только тем и занимается, что рассуждает на тему о том, что было бы, если бы... Но мне такие рассуждения глубоко несимпатичны, и я не склонен их рассматривать в качестве части истории как науки. А с другой стороны, отказ от рассмотрения каких бы то ни было исторических причин тоже кажется мне нежелательным. И если мы откажемся от рассмотрения исторических причин, то возникает вопрос о том, а чем, собственно, исторические причины отличаются от неисторических. Ведь, вообще говоря, всякое утверждение о какой бы то ни было причинной связи апеллирует к событиям, бывшим в прошлом (Ивин, 2008), и поэтому любое такое утверждение может рассматриваться как утверждение историческое. Так что если мы не хотим говорить об исторических причинах, то тогда надо отказываться и от рассмотрения каких бы то ни было причин вообще, т. е. считать, что мир полностью индетерминистичен, а такое мировоззрение, хотя оно, наверное, и существует, но мне оно тоже как-то не симпатично.
Разрешение описанного противоречия мне видится в различении таких понятий как историческая причина и физическая причина. В основе такого различения лежат представления о том, что всякое историческое событие, во-первых, уникально, а во-вторых, в некотором смысле бесконечно «глубоко», т. е. его можно представить себе как характеризующееся бесконечным числом признаков. Рассмотрим, например, такое высказывание об исторической причинности: «Убийство Распутина послужило причиной победы Февральской революции в России». В этом утверждении слово «Распутин» представляет собой собственное имя и обозначает некоего конкретного человека, уникального и, следовательно, отличного от любого другого человека. Эта уникальность связана с тем, что любой человек может быть охарактеризован бесконечным количеством признаков. Поэтому, какого бы другого человека мы ни взяли, всегда найдётся такой признак, по которому этот другой человек от Распутина отличается. И поскольку Распутин входит в описание данного исторического события (убийства Распутина), то, стало быть, само это событие тоже уникально и может быть охарактеризовано бесконечным количеством признаков.
Но, несмотря на эту уникальность, можно говорить если не о тождестве событий, то, по крайней мере, о каком-то их сходстве: полностью тождественных событий не бывает, а сходство по тем или другим признакам может быть. Два разных события могут быть охарактеризованы каким-нибудь, скажем, одним или двумя общими признаками; они сходны по этим самым признакам. В силу этого можно говорить не о причинной связи между событиями, а о причинной связи между признаками событий. Если всякий раз, когда мы наблюдаем, например, некий признак P, мы видим, что за событием, которое характеризовалось этим признаком, следует другое событие, которое характеризовалось каким-нибудь другим признаком R, то из этого можно сделать вывод, что не то что одно событие является следствием другого, а то, что признак R является следствием признака P. И такое суждение можно вынести на основании большого числа наблюдений, поскольку хотя большого числа одинаковых исторических событий не бывает (всякое событие уникально), но большое количество признаков этих событий возможно, потому что разные события могут иметь один и тот же признак. Таким образом, мы можем определить понятие причинности через рассуждения подобного рода. Насколько я понимаю, такие рассуждения называются индуктивной логикой и обобщаются в виде канонов Милля – канона сходства и канона различия (Магинскас, 1963).
То же самое, наверное, можно сказать, если определять причину с помощью дедуктивной, а не индуктивной логики – через импликацию. Импликация, как уже говорилось, – это логическая пропозициональная связка, она связывает два высказывания, а два высказывания всегда конечны. Сформулируем это более аккуратно. Можно говорить, что событие A является причиной события B, если из описания события A логически следует описание события B, т. е. описание события A и описание события B связаны друг с другом импликацией. Но здесь опять же можно заметить, что каждое из этих описаний представляет собой конечный текст. Ни одно из них не является полным описанием соответствующего события, а является просто перечислением какого-то конечного набора признаков того и другого. Так что на самом деле в данном случае импликация связывает друг с другом не два события (их полное описание невозможно в виде конечного текста), она связывает некие признаки одного события с некими признаками другого события. Поэтому когда мы говорим о такого рода причинности, то мы имеем в виду не причинно-следственную связь событий, а причинно-следственную связь признаков этих событий.
Вот и получается, что надо различать такие понятия как причинную связь событий (историческую причинность) и причинную связь признаков, которую можно назвать физической причинностью. Историческая причинность невозможна в силу того, что всякое событие уникально, а физическая причинность возможна, потому что признаки могут быть тождественны друг другу. Таким образом, я утверждаю, что нельзя говорить о причинной связи между историческими событиями, но это не значит, что весь мир индетерминистичен: в нём существует физическая причинность, которая может связывать друг с другом не конкретные события, а некие признаки.
Настоящая запись представляет собой отредактированный текст моего выступления на заседании семинара по предельным вопросам, проходившем в Музее-институте семьи Рерихов 28 ноября 2017 г. (руководитель семинара С. В. Чебанов). Видеозапись заседания семинара можно найти по адресу kinobeer.ru/%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B...
Литература
Ивин А. А. Проблема понимания природы и понятие детерминизма // Эпистемология и философия науки, 2008, т. XV, № 1, стр. 14–32.
Клини С. К. Математическая логика (пер. с англ.). М.: Мир, 1973, 480 стр.
Магинскас Ю. А. Об одном подходе к анализу причинности // Проблемы логики. М.: изд-во Академии Наук СССР, 1963, стр. 144 – 150.
Одно из этих положений в несколько упрощенной форме состоит в том, что история не знает сослагательного наклонения. А если его формулировать более аккуратно, то можно сказать, что употребление контрфактуалов, когда речь идёт об исторических событиях, представляется крайне нежелательным. Контрфактуал – это высказывание, которое имеет структуру типа «если..., то...», и при этом его предпосылка, т. е. часть, заключённая между словами «если» и «то», представляет собой заведомо ложное утверждение. Когда контрфактуал относится к событиям, происходившим в прошлом, то в него обычно вставляется частица «бы», придающая всему высказыванию характер сослагательного наклонения, но особой роли в логическом статусе таких высказываний эта частица не играет. Примером контрфактуала может служить фраза: «Если бы я вышел на 5 минут раньше, я бы не опоздал». Я, очевидно, вышел в то время, в которое я вышел, а не на пять минут раньше. Поэтому предпосылка «если бы я вышел на 5 минут раньше» очевидным образом является ложной.
Почему, собственно, такие утверждения нежелательны? В логике утверждения, содержащие конструкцию «если..., то...», называются импликациями. Импликация в логике трактуется как пропозициональная связка, которая определяется через соответствующую таблицу истинности, показывающую, какие истинностные значения принимает всё высказывание в целом в зависимости от значений атомарных высказываний, связанных этой самой импликацией (Клини, 1973). При этом, если предпосылка высказывания ложна и заключение ложно, то всё высказывание в целом истинно. А если предпосылка ложна, и заключение истинно, то всё высказывание в целом тоже истинно. Таким образом, при ложной предпосылке рассматриваемое утверждение оказывается истинным независимо от того, чтό из этой ложной предпосылки выводится. Утверждение «Если бы я вышел на 5 минут раньше, то я бы не опоздал», оказывается столь же истинным, как и утверждение «Если бы я вышел на 5 минут раньше, я бы опоздал всё равно». Поэтому такого рода утверждения представляются как бы не истинными и не ложными, а просто бессмысленными. Не понятно, зачем их вообще произносить, если они столь же истинны, как и их отрицания. В силу этого употребление такого рода утверждений представляется совершенно не желательным при описании каких-то исторических событий. Если бы какое-либо реально произошедшее историческое событие не произошло, то из этого можно вывести всё, что угодно. В кратком и афористичном выражении всё это обычно итожится в виде тезиса о том, что история не имеет сослагательного наклонения.
Но этому тезису можно противопоставить другой – тезис о том, что в истории существуют и действуют некие причины. Если мы говорим, что событие A является причиной события B, то это утверждение можно переформулировать в виде контрфактуала: «Если бы не произошло события A, то не произошло бы и события B». Таким образом, отказываясь от употребления котрфактуалов, мы должны отказаться и от рассмотрения каких бы то ни было причин в истории, потому что всякое высказывание о причинных связях исторических событий эквивалентно некоторому контрфактуалу. А отказываться от рассмотрения каких бы то ни было исторических причин на самом деле тоже как-то не хочется, и историки очень любят рассуждать о причинах тех или иных исторических событий. Например, кода я учился в школе, то в билетах к выпускному экзамену по истории был такой вопрос: причины победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Этот пример, как легко понять, далеко не единственный в исторической науке.
Конечно, существует и такое направление в истории как альтернативная история, которое только тем и занимается, что рассуждает на тему о том, что было бы, если бы... Но мне такие рассуждения глубоко несимпатичны, и я не склонен их рассматривать в качестве части истории как науки. А с другой стороны, отказ от рассмотрения каких бы то ни было исторических причин тоже кажется мне нежелательным. И если мы откажемся от рассмотрения исторических причин, то возникает вопрос о том, а чем, собственно, исторические причины отличаются от неисторических. Ведь, вообще говоря, всякое утверждение о какой бы то ни было причинной связи апеллирует к событиям, бывшим в прошлом (Ивин, 2008), и поэтому любое такое утверждение может рассматриваться как утверждение историческое. Так что если мы не хотим говорить об исторических причинах, то тогда надо отказываться и от рассмотрения каких бы то ни было причин вообще, т. е. считать, что мир полностью индетерминистичен, а такое мировоззрение, хотя оно, наверное, и существует, но мне оно тоже как-то не симпатично.
Разрешение описанного противоречия мне видится в различении таких понятий как историческая причина и физическая причина. В основе такого различения лежат представления о том, что всякое историческое событие, во-первых, уникально, а во-вторых, в некотором смысле бесконечно «глубоко», т. е. его можно представить себе как характеризующееся бесконечным числом признаков. Рассмотрим, например, такое высказывание об исторической причинности: «Убийство Распутина послужило причиной победы Февральской революции в России». В этом утверждении слово «Распутин» представляет собой собственное имя и обозначает некоего конкретного человека, уникального и, следовательно, отличного от любого другого человека. Эта уникальность связана с тем, что любой человек может быть охарактеризован бесконечным количеством признаков. Поэтому, какого бы другого человека мы ни взяли, всегда найдётся такой признак, по которому этот другой человек от Распутина отличается. И поскольку Распутин входит в описание данного исторического события (убийства Распутина), то, стало быть, само это событие тоже уникально и может быть охарактеризовано бесконечным количеством признаков.
Но, несмотря на эту уникальность, можно говорить если не о тождестве событий, то, по крайней мере, о каком-то их сходстве: полностью тождественных событий не бывает, а сходство по тем или другим признакам может быть. Два разных события могут быть охарактеризованы каким-нибудь, скажем, одним или двумя общими признаками; они сходны по этим самым признакам. В силу этого можно говорить не о причинной связи между событиями, а о причинной связи между признаками событий. Если всякий раз, когда мы наблюдаем, например, некий признак P, мы видим, что за событием, которое характеризовалось этим признаком, следует другое событие, которое характеризовалось каким-нибудь другим признаком R, то из этого можно сделать вывод, что не то что одно событие является следствием другого, а то, что признак R является следствием признака P. И такое суждение можно вынести на основании большого числа наблюдений, поскольку хотя большого числа одинаковых исторических событий не бывает (всякое событие уникально), но большое количество признаков этих событий возможно, потому что разные события могут иметь один и тот же признак. Таким образом, мы можем определить понятие причинности через рассуждения подобного рода. Насколько я понимаю, такие рассуждения называются индуктивной логикой и обобщаются в виде канонов Милля – канона сходства и канона различия (Магинскас, 1963).
То же самое, наверное, можно сказать, если определять причину с помощью дедуктивной, а не индуктивной логики – через импликацию. Импликация, как уже говорилось, – это логическая пропозициональная связка, она связывает два высказывания, а два высказывания всегда конечны. Сформулируем это более аккуратно. Можно говорить, что событие A является причиной события B, если из описания события A логически следует описание события B, т. е. описание события A и описание события B связаны друг с другом импликацией. Но здесь опять же можно заметить, что каждое из этих описаний представляет собой конечный текст. Ни одно из них не является полным описанием соответствующего события, а является просто перечислением какого-то конечного набора признаков того и другого. Так что на самом деле в данном случае импликация связывает друг с другом не два события (их полное описание невозможно в виде конечного текста), она связывает некие признаки одного события с некими признаками другого события. Поэтому когда мы говорим о такого рода причинности, то мы имеем в виду не причинно-следственную связь событий, а причинно-следственную связь признаков этих событий.
Вот и получается, что надо различать такие понятия как причинную связь событий (историческую причинность) и причинную связь признаков, которую можно назвать физической причинностью. Историческая причинность невозможна в силу того, что всякое событие уникально, а физическая причинность возможна, потому что признаки могут быть тождественны друг другу. Таким образом, я утверждаю, что нельзя говорить о причинной связи между историческими событиями, но это не значит, что весь мир индетерминистичен: в нём существует физическая причинность, которая может связывать друг с другом не конкретные события, а некие признаки.
Настоящая запись представляет собой отредактированный текст моего выступления на заседании семинара по предельным вопросам, проходившем в Музее-институте семьи Рерихов 28 ноября 2017 г. (руководитель семинара С. В. Чебанов). Видеозапись заседания семинара можно найти по адресу kinobeer.ru/%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B...
Литература
Ивин А. А. Проблема понимания природы и понятие детерминизма // Эпистемология и философия науки, 2008, т. XV, № 1, стр. 14–32.
Клини С. К. Математическая логика (пер. с англ.). М.: Мир, 1973, 480 стр.
Магинскас Ю. А. Об одном подходе к анализу причинности // Проблемы логики. М.: изд-во Академии Наук СССР, 1963, стр. 144 – 150.
суббота, 01 декабря 2018
Недавно в Интернете я наткнулся на картинку, которую можно воспринять как фактическое опровержение того, что было написано о Л. Н. Гумилёве в моём дневнике 6 июля 2012 г. (“Habent sua fata libelli”, megatherium.diary.ru/p178403492.htm).

Конечно, это фейк, ибо как можно написать что-либо между двумя гаражами? Однако уже сам факт появления такой картинки в Интернете в 2018 г. заставляет усомниться в безусловной истинности написанного мной. Ну что ж, я очень рад этому, потому что на эмоциональном уровне всегда относился с большим уважением к Льву Николаевичу.
Дополнение 2019 г.
Поступив учиться на Епархиальные курсы религиозного образования и катехизации при СПбДА, я купил себе в магазине канцтоваров несколько общих тетрадей, для того чтобы записывать в них лекции. Тетради эти предназначались, очевидно, для школьников и среди них было какое-то количество "предметных", т. е. предназначенных для определённого школьного предмета и содержавших помимо чистых листов также разного рода справочные материалы по этому предмету. Была среди них и "Тетрадь по истории", на задней обложке которой были помещены портреты 4-ёх (очевидно, "великих") историков и приведены краткие сведения об их жизни. Историками этими были Геродот, Н. М. Карамзин, В. В. Струве и Л. Н. Гумилёв.

Конечно, это фейк, ибо как можно написать что-либо между двумя гаражами? Однако уже сам факт появления такой картинки в Интернете в 2018 г. заставляет усомниться в безусловной истинности написанного мной. Ну что ж, я очень рад этому, потому что на эмоциональном уровне всегда относился с большим уважением к Льву Николаевичу.
Дополнение 2019 г.
Поступив учиться на Епархиальные курсы религиозного образования и катехизации при СПбДА, я купил себе в магазине канцтоваров несколько общих тетрадей, для того чтобы записывать в них лекции. Тетради эти предназначались, очевидно, для школьников и среди них было какое-то количество "предметных", т. е. предназначенных для определённого школьного предмета и содержавших помимо чистых листов также разного рода справочные материалы по этому предмету. Была среди них и "Тетрадь по истории", на задней обложке которой были помещены портреты 4-ёх (очевидно, "великих") историков и приведены краткие сведения об их жизни. Историками этими были Геродот, Н. М. Карамзин, В. В. Струве и Л. Н. Гумилёв.
вторник, 26 июня 2018
Осенью 2015 г. я принимал участие в конференции «Пути святости и пути учёности», проводившейся Музеем-институтом семьи Рерихов в рамках Дней Петербургской Философии, где выступал с докладом на тему «Природа как “второе” откровение». По итогам конференции было решено издать её труды в журнале «Холизм и здоровье», и срок подачи текстов докладов в письменном виде был назначен на конец января 2016 г. В начале января я тяжело заболел воспалением лёгких, но даже лёжа в больнице, лихорадочно (в прямом смысле этого слова) набирал на компьютере текст своего доклада, чтобы успеть представить его в редакцию журнала к назначенному сроку. Однако, когда этот срок наступил, выяснилось, что я – единственный автор, который представил свой доклад. Не знаю, присылали ли другие авторы свои тексты после назначенного срока, но только мой текст остаётся неопубликованным до сего дня, хотя редакция журнала уверяет меня, что моя статья у них лежит и обязательно будет напечатана (правда, когда – неизвестно). У меня же почти не осталось надежды на то, что это когда-нибудь произойдёт. За истекшие 2,5 года я успел вывесить эту статью на сайте Богослов.ru, но недавно узнал, что по адресу, под которым она значится на этом сайте (www.bogoslov.ru/text/5350478.htm), открыть её невозможно. Поэтому для того, чтобы всё-таки сделать статью общедоступной, помещаю её здесь.
А. В. Гоманьков
ПРИРОДА КАК «ВТОРОЕ» ОТКРОВЕНИЕ
Одним из главных положений христианской рефлексии является утверждение о том, что христианство есть религия богооткровенная. Все остальные (нехристианские) религии с точки зрения христианства суть «естественные» религии. Они выражают естественное стремление человека к Богу или, образно говоря, движение, направленное «снизу вверх», от земли на небо. В отличие от них христианство, со своей собственной точки зрения, выражает движение, направленное «сверху вниз» или с неба на землю. Оно есть результат снисхождения Бога к людям, Его самооткрытия. Таким образом, в основу своего существования христианство полагает Божественное Откровение (от слова «открывать»). Главным «вместилищем» или «формой» этого Откровения считается Священное Писание или Библия – совокупность текстов, составленных в интервале времени примерно от XV в. до н. э. и до II в. н. э. Однако уже с первых веков существования христианства формируется представление о «втором» (т. е. существующем наряду со Священным Писанием) Откровении, в качестве которого рассматривается Природа или «тварный мир» по христианской терминологии. Если мир сотворён Богом, то он несёт на себе как бы отпечаток своего Творца, и человек, изучая этот мир, через его познание отчасти познаёт и Бога, «обнаруживает сокрытого Творца так, как мы видим поэта за словами стихов или художника – за игрою красок» (Яннарас, 1992, стр. 80). Природа в некотором смысле так же может рассматриваться как книга, автором которой является Бог.
Герменевтические отношения между Божественным Откровением и его человеческим восприятием

Создание отчётливого понятия о «книге Природы» обычно приписывается Ф. Бэкону (Протоиерей Кирилл Копейкин, 2014), и это понятие использовалось (в том числе и в религиозном смысле, т. е. в значении «второго» Откровения) многими последующими учёными, например, М. В. Ломоносовым (Священник Глеб Каледа, 1991). Однако, если обращаться к истории, то корни подобных представлений можно усмотреть ещё в самых ранних памятниках христианской письменности. В качестве исходной точки здесь, вероятно, может рассматриваться знаменитый 20-ый стих из I главы Послания св. апостола Павла к Римлянам: «…Невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы...». Ту же идею «прозревания» Творца в твари можно найти в произведениях «золотого века» святоотеческой письменности (IV – V вв. н. э.). Апеллируя к процитированным выше словам св. апостола Павла, св. Афанасий Великий пишет: «Бог благ, человеколюбив, благопопечителен о сотворенных Им душах; и поскольку по естеству Он невидим и непостижим, превыше всякой сотворенной сущности, а род человеческий, произшедший из ничего, не достиг бы ведения о Нем несотворенном, то посему-то самому и привел Он тварь Словом Своим в такое устройство, чтобы Его, невидимого по естеству, могли познавать люди хотя из дел. Ибо из дел нередко познается и такой художник, которого мы не видали… Так и из порядка в мире можно познавать Творца и Создателя его, Бога, хотя и не видим Он телесным очам. Никто не смеет сказать, будто бы Бог во вред нам употребил невидимость естества Своего, и оставил Себя совершенно непознаваемым для людей. Напротив того, по сказанному выше, в такое устройство привел Он тварь, что, хотя невидим по естеству, однако же познается из дел» (Св. Афанасий Великий, 1994, стр. 171 – 172). Великим Художником называет Бога-Творца и св. Василий Великий (1845, стр. 163): «Достанет ли времени описать и поведать все чудеса Художника? Скажем и мы с пророком: яко возвеличашася дела Твоя, Господи: вся премудростию сотворил еси (Псал. 103, 24)». Ту же мысль в своём толковании на Быт. I, 3 – 4 выражает брат св. Василия св. Григорий Нисский (1861). Согласно с ними высказывался и св. Ефрем Сирин (1900, стр. 270): «Моисей в книге своей описал творение природы, чтобы о Творце свидетельствовали и природа, и Писание, – природа, когда пользуемся ею, Писание – когда читаем его. Сии два свидетеля обходят всякую страну, пребывают во все времена, они всегда перед нами и обличают отступников, отрицающих Творца». А св. Григорий Богослов (2000, стр. 185), близкий друг свв. Василия Великого и Григория Нисского прямо писал, что весь природный мир – это «великая и преславная книга Божия, в которой открывается самим безмолвием проповедуемый Бог».
В XIV в. представления о мире как о книге получили широкое распространение в рамках католического богословия, точнее, тогдашней фазы его развития, называемой схоластикой. Метафора «книги Природы» стала первой господствующей познавательной моделью (по терминологии А. П. Огурцова) в последовательности других познавательных моделей, образующей историю европейской науки (Чайковский, 2001). По существу, исторически первой наукой (в современном смысле этого слова) было богословие (Петров, 1978; Яки, 1992; Гайденко, 1997б; Рацш, 2014), а сведения, составившие в дальнейшем фундамент конкретных естественных наук, входили в состав богословской дисциплины, именовавшейся естественным богословием (“theologia naturalis”), и считались источником знаний о Боге и средством приближения к Нему. Эти так называемые «конкретные науки» (физика, химия, биология, геология) отпочковались от богословия в ходе того процесса дифференциации, который характерен для развития науки вообще.
Метафора «книги Природы» имеет важное следствие этического характера. Если мир – это книга, то у этой книги должен быть автор. То, что автором «книги Природы» является Бог, было очевидно даже во времена Ф. Бэкона, не говоря уже о «золотом веке» святоотеческой письменности. Но если «книга Природы» написана Богом, то мы должны её читать и горе нам, если мы этого не делаем! Сегодня мы говорим, что всякая книга пишется в расчёте на определённую читательскую аудиторию, и если мы исключаем себя из «аудитории Бога», то это значит, что мы сознательно отвергаем Слово Божие, обращённое к нам, впадая в грех богоотступничества.
Однако между тем временем, когда христиане осознали тварный мир как книгу, написанную Богом («золотым веком»), и тем временем, когда они начали эту книгу читать (временем рождения естествознания в рамках схоластического богословия), прошла без малого тысяча лет. Причины этого «временнóго разрыва», подробно проанализированные П. П. Гайденко (1997а; 2000) и Д. Рацшем (2014), заслуживают хотя бы краткого рассмотрения в настоящем сообщении.
После издания в 313 г. Миланского эдикта христианство стало, по существу, государственной религией Римской империи. При этом христианское вероучение «вышло» в дискурс позднеантичной культуры, что потребовало его осмысления и изложения на философском языке этой культуры. Доминирующим же философским «интеллектуальным каркасом» в позднеантичной Европе была философская традиция, восходящая к Аристотелю и далее – к Платону. Поэтому учителя Церкви IV и последующих веков усвоили себе язык этой традиции; их идеи и даже самый способ мышления оказались в ней укоренёнными. Св. блаженный Августин, явившийся по существу «отцом» всей западной средневековой философии (помимо того, что он был для неё высшим авторитетом и примером для подражания, можно сказать, что весьма значительную часть её содержания составляют комментарии на его сочинения), писал о платонизме: «Что же касается исследований чистого разума, то я уже так настроен, что если бы особенно сильно пожелал уразуметь что-либо истинное не верою только, но и пониманием, уверен, что найду это у платоников между тем, чтó не противоречит нашей религии» (Св. блаженный Августин, 1905б, стр. 103; см. также Св. блаженный Августин, 1905а). Фактически блаженный Августин превратил философию Платона в фундамент христианской догматики, а его собственную философию можно назвать христианским неоплатонизмом (Майоров, 1979). На Востоке столь же сильному влиянию неоплатонизма были подвержены члены «каппадокийского кружка» – свв. Василий Великий, Григорий Богослов и Григорий Нисский, а в более поздние времена – Псевдо-Дионисий и св. Максим Исповедник. В VIII в. преп. Иоанн Дамасакин, как бы синтезируя всё святоотеческое богословие, создал фундаментальный труд «Источник знания» (Св. преп. Иоанн Дамаскин, 1913), 1-ая часть которого («Философские главы») представляет собой своеобразное философское введение в догматическое богословие и фактически является изложением «Категорий» Аристотеля в их неоплатонистической интерпретации.
Основным содержанием философии Платона является, как известно, учение об идеях – нематериальных основах всех чувственно воспринимаемых предметов, которые представляют собой лишь несовершенные воплощения или «тени» своих идей. Очень важно, что число идей существенно меньше числа предметов, так что разные предметы могут быть воплощением одной и той же идеи, а сами идеи являются умопостигаемыми: они могут быть усвоены только умом в результате рациональной операции обобщения. Неоплатоник Порфирий (232/233 – 304/306) фактически отождествил понятие платоновской идеи с категорией сущности (οὐσία, substantia) Аристотеля (Порфирий, 1939), а христианский философ Боэций (ок. 480 –524/526) перенёс это понимание в сферу латиноязычного философского и богословского мышления (Боэций, 1990). И хотя онтологический статус платоновских «идей» и «сущностей» Аристотеля изначально был различным, представления о том, что всякое бытие подразделяется на существенную и несущественную части (соответственно, субстанцию или природу и акциденцию), стали основой средневековой философии. Одновременно неоплатоники обобщили представления Платона с отдельных вещей на весь мир – стали говорить о некоей общей единой идее или душе мира. Философские системы Платона и Аристотеля были слиты в единую традицию, центрированную на таких понятиях как «сущность» и «субстанция» и ставшую основой христианской философии на многие века, которые обычно называются «средними».
Св. преп. Иоанн Дамаскин (1913, стр. 53) определяет субстанцию следующим образом: «…Субстанция есть самосушая вещь, не нуждающаяся для своего существования в другой». Тем самым вещи приобретают онтологическую самостоятельность, собственную укоренённость в бытии. Природа становится существующей сама по себе, а значит, обретает собственную сакральность, приравнивается к Богу в смысле качества своего существования. Мир в платоновско-аристотелевской традиции обладает рациональной, логической необходимостью, и эта необходимость оказывается «сильнее» даже Бога в отношении производящей или творящей силы, так что Сам Бог вынужден ей подчиняться в Своих действиях. Вещи таковы, каковы они суть, и ведут себя определённым образом, потому что такова их природа. Вот что писал во II в. римский врач и философ Гален (цит. по Гайденко, 2000, стр. 44 – 45): «Нашему Богу недостаточно только захотеть, чтобы возникли или были созданы вещи той или иной природы. Ибо если бы Он захотел мгновенно превратить камень в человека, это было бы не в Его силах. Именно здесь наше собственное учение, так же как и учение Платона и остальных греков… отличается от учения Моисея. Согласно Моисею, Богу достаточно пожелать, чтобы материя приобрела ту или иную форму, и она тем самым приобретёт её. Он считает, что для Бога всё возможно, даже если Он захочет превратить прах в лошадь или быка. Мы же так не думаем, но утверждаем, что некоторые вещи невозможны по природе, и Бог даже не пытается создавать их. Он лишь выбирает наилучшее из возможного». Очевидно, что аристотелианец Гален не был знаком с христианством и противопоставляет свою концепцию иудаизму, но христианство в полной мере унаследовало от иудаизма своё понимание соотношения Бога и Природы и всё то, что Гален пишет о Боге Моисея в полной мере приложимо и к Богу христиан. Понятно также, что подобное платоновско-аристотелевское восприятие Природы есть язычество в широком смысле (обожествление Природы – всей в целом или отдельных её феноменов) и его последовательное философско-религиозное развитие воплощается в линии Платон – Плотин – Спиноза, т. е. приводит к пантеизму, обожествлению того, что в иудео-христианской традиции называется «тварью». На протяжении всей своей истории (и даже иудаистской предыстории) христианство подчёркивало непозволительность почитания твари наравне с Творцом и видело в этом своё главное отличие от язычества [1]. Однако в сфере практического отношения к Природе оно усвоило себе этот платоновско-аристотелианский и, в конечном счёте, языческий подход.
Как отмечает Рацш (2014), экспериментальное изучение Природы, с точки зрения Аристотеля, неэффективно и даже грешно. Поскольку мир логически необходим, то одно чистое умозрение, усвоение логических законов, управляющих миром, оказывается достаточным для его адекватного познания. Эксперимент же искажает подлинное, самодостаточное и, следовательно, сакральное бытие Природы. «Этот общегреческий взгляд был, в разных отношениях, философски плодотворным, но не привёл к устойчивой традиции, которая могла бы быть названной научной в смысле последней Научной Революции. Фактически некоторые из аспектов греческой мысли, очерченные выше, могли препятствовать развитию чего-то подобного современной науке. И это общее влияние надолго пережило саму греческую культуру» (Рацш, 2014, стр. 48).
О Платоне известна следующая легенда. Однажды к нему пришёл один из его учеников и спросил: «Учитель! Почему я могу видеть лошадь своими глазами, а лошадность (т. е. идею лошади) не могу?». «А это потому, – ответил ему Платон, – что глаза для того, чтобы видеть лошадь, у тебя есть, а глаз, чтобы видеть лошадность, – нет!». Эта история представляет собой, очевидно, вымысел, ибо даже Диоген Лаэртский (1979) – большой ценитель и собиратель подобного рода повествований – не приводит её в своей книге. Однако она кажется весьма поучительной, ибо живо перекликается с другой легендой (или, если угодно, сказкой) – историей Х. К. Андерсена (2011) о голом короле. Герои этой истории, два обманщика, так же объявили дураком всякого, кто не видел якобы сотканной ими прекрасной ткани. И все начали восхищаться несуществующим нарядом короля. Аналогично философы античности и раннего средневековья восхищались мудростью Платона, опасаясь, что их так же, как незадачливого ученика, обвинят в отсутствии «умных очей», которыми надлежит созерцать платоновские «идеи». Однако, в отличие от сказки Андерсена, европейской философии потребовалось более полутора тысяч лет, чтобы в лице ранних номиналистов обрести наконец того мальчика, который во всеуслышание объявил: «Да ведь король-то – совсем голый!» [2].
Протоиерей Кирилл Копейкин (2002) связывал зарождение европейского естествознания с деятельностью Бонавентуры (ок. 1218 – 1274) на посту генерала францисканского ордена, а историк науки П. Дюгем называл даже конкретную дату рождения этой науки – 1277 год, когда архиепископ Парижа Стефан Тампье опубликовал 219 тезисов, направленных против аверроистов и тем самым – против Аристотеля. «Несмотря на довольно большое разнообразие этих 219 положений, основной акцент был на идее, что поскольку фундаментальные принципы рациональности логически необходимы и поскольку Бог полностью разумен, то Он должен был творить и руководить космосом способом, который строго диктуется принципами рациональности. Епископ отверг это как нарушение суверенной свободы Бога творить и руководить так, как Он свободно избрал» (Рацш, 2014, стр. 60). Так или иначе, но возникновение европейской науки оказалось связанным с той «философской революцией» конца XIII – начала XIV в., которую Гайденко (1997а) назвала переходом от метафизики бытия к метафизике воли. От языческой по своей сути платоновско-аристотелевской традиции христианство вернулось к своей собственной традиции Откровения, данного в Ветхом и Новом Завете, где Бог – Творец и Правитель Вселенной – трактуется, прежде всего, как беспредельное всемогущество, абсолютно свободное и не ограниченное никаким природным бытием. Мир вновь обрёл статус Божиего творения, и его эмпирическое и экспериментальное изучение становится возможным и даже необходимым. Очень точно суть этой революции в христианской философии в 1720 г., т. е. уже на исходе собственно научной революции, выразил Коттон Мэзер, американский зоолог и пуританский проповедник: «…Не существует такой вещи, как универсальная Душа, оживляющая огромную систему Мира, как у Платона; ни каких-либо субстанциальных Форм, как у Аристотеля… Эти неразумные Сущие умаляют Мудрость и Силу великого Бога, способного с лёгкостью руководить Машиной, которую Он мог бы создать посредством гораздо более прямых Методов, чем использование таких подчинённых божеств... Теперь стало ясно из самых очевидных принципов, что великий Бог… имел истоки этой огромной машины и все части её в Своих собственных Руках…» (цит. по Рацш, 2014, стр. 55 – 56).
Таким образом, схоластика конца XIII – начала XIV в. явилась средой зарождения того феномена человеческой культуры, который мы теперь называем естествознанием. Одну из своих сверхзадач схоластика видела в доказательстве существования Бога, рациональном обосновании истин христианской веры. На службу этой сверхзадачи было поставлено и зарождающееся в виде «естественного богословия» естествознание, что привело в дальнейшем к искажению смысла самогó понятия «естественное богословие»: под этим термином стали понимать любые доказательства бытия Божия – даже те из них, которые не имеют никакого отношения к природному миру и изучающим его естественным наукам. Например, программная статья, которая открывает недавно вышедшую на русском языке фундаментальную сводку «Новое естественное богословие», начинается таким определением: «Естественное богословие – это практика философского размышления о существовании и природе Бога независимо от подлинного или мнимого божественного откровения или священного писания» (Талиаферро, 2014, стр. 1; курсив мой – АГ). Но даже если ограничить «естественное богословие» его первоначальным содержанием, с православной точки зрения очевидно, что задача, поставленная перед ним схоластикой, была бесперспективной. Бытие Бога не может быть доказано (равно, как и опровергнуто) средствами естествознания так же, как оно не может быть доказано любыми другими средствами. Бог не навязывает нам Себя принудительным путём, Он хочет от нас подвига веры, т. е. свободного выбора нашей воли.
Эта бесперспективность естественно-научного доказательства бытия Божия выяснялась примерно к началу XIХ в. Оказалось, что наука может существовать совершенно независимо от богословия; можно быть, например, хорошим физиком или биологом и при этом исповедывать атеизм, т. е. вообще не верить в Бога. До осознания теоремы Гёделя в те времена было ещё очень далеко (будучи доказанной в 1931 г., она даже в XX в. вызвала впечатление взорвавшейся бомбы), поэтому тот факт, что наука оказалась неспособной доказать существование Бога, был истолкован в виде тезиса «Наука доказала, что Бога нет», который в начале XX в. был принят на вооружение государственной атеистической пропагандой в Советской России.
Тем не менее, эта логическая независимость естествознания и богословия не может служить аргументом против всей познавательной модели, рассматривающей Природу как книгу, написанную Богом. Да, бытие Бога не может быть доказано средствами естествознания, но если мы примем (в силу каких-либо вненаучных соображений), что Бог существует, то естествознание может многое рассказать нам о Нём, о том, Какой Он, как и каким образом Он творил мир в прошлом, а ныне взаимодействует с ним и им управляет. «…Если мир сотворён Богом, научное знание должно углублять и прояснять наше понимание Бога и отношения Бога к творению…» (Пикок, 2004, стр. 9).
Например, развитие космологии и абсолютной геохронологии в XX в. потребовало включения в христианский богословский дискурс того феномена, который получил название «мегавремя» (Сошинский, 2011). Стало понятно, что процесс творения Богом мира был процессом (по нашим человеческим меркам) чрезвычайно медленным. События сотворения отдельных природных феноменов, о которых говорится в книге Бытия, были отделены друг от друга сотнями миллионов и миллиардами лет [3], а «дочеловеческая» история мира продолжалась в десятки тысяч раз дольше, чем вся последующая история человечества. Образно говоря, Бог «не торопился», когда создавал мир, и мы должны включить этот факт в свои представления о Боге, каким бы неожиданным он нам ни казался в свете сложившихся представлений христианского богословия.
Или другой пример. Из повседневной жизни нам хорошо известен феномен размножения животных и растений, и сейчас вряд ли кто-нибудь станет оспаривать тот факт, что всякий живой организм происходит от своих родителей – других организмов, в чём-то сходных с ним самим. В XIX в. теория Дарвина перенесла этот «принцип происхождения» с отдельных организмов на биологические таксоны, а космология, развитая в XX в., сделала его всеобщим «законом природы». Ныне для любого феномена, возникшего после Большого Взрыва, правомерным, по крайней мере, является вопрос о том, из чего этот феномен возник. Если же переформулировать данные представления на богословском языке, то мы должны будем признать, что из ничего («ex nihilo») Бог сотворил лишь какие-то самые первые и самые примитивные формы материи, а всё остальное Он творил из чего-то, что было сотворено раньше («ex aliquo»). Эта идея, находящая подтверждение в Библии (см. Быт. I, 11 – 12, 20 – 21, 24 – 25; II, 7), ещё в XIX в. была отчётливо выражена св. Игнатием Брянчаниновым (1997, стр. 19): «…Творил Он из преждесотворённых тварей твари новые единым словом»; однако её до сих пор нельзя назвать общеизвестной и общепринятой в христианском богословии. Иногда приходится сталкиваться с богословскими сочинениями, авторы которых, спекулируя на том, что некоторые из «проблем происхождения» (особенно часто речь идёт о происхождении жизни) остаются до сих пор не решёнными в рамках естествознания, пытаются дискредитировать положительные достижения науки и их значение для христианского мировоззрения (см., например, Виолован, Лисовский, 2005). Впрочем, подобные взгляды, получившие наименование богословия «белых пятен», кажется, постепенно изживаются из христианского дискурса и уже не могут считаться принадлежащими к его «мейнстриму» (Кюнг, 2007).
В качестве третьего примера влияния естествознания на богословие можно обратить внимание на следующее обстоятельство. Среди современных православных богословов (см., например, Священник Константин Буфеев, 2000; Протоиерей Александр Салтыков, 2011 и др.) широко распространено мнение о том, что до грехопадения Адама и Евы животные на Земле не умирали: «Бог не сотворил смерти» (Прем. I, 13), а смерть животных есть зло, несовместимое с «хорошим весьма» («райским») состоянием, которого наша планета достигла к концу шестого «дня» творения (Быт. I, 31), и возникшее лишь в результате грехопадения и после него. Это мнение, однако, находится в вопиющем противоречии с показаниями палеонтологической летописи, свидетельствующими о том, что животные начали умирать фактически с момента своего появления на Земле, т. е. задолго до возникновения первых людей и, следовательно, до грехопадения. Таким образом, данные палеонтологии показывают, что смерть животных так же должна рассматриваться как элемент Божьего творения и в таком качестве она являлась благом, причастным Божеству. Все негативные упоминания о «смерти вообще» как в Священном Писании (см., например, процитированный выше стих из книги Премудрости Соломона), так и в творениях святых отцов должны интерпретироваться как относящиеся лишь к миру людей, т. е. к человечеству (во всём мире только человек был сотворён бессмертным и утратил это своё богоподобное свойство в результате грехопадения; см. также Св. Григорий Нисский, 1995; Св. блаженный Августин, 1912). А признание смерти животных злом появилось благодаря тому, что Адам и Ева «вкусили плодов от дерева познания добра и зла», т. е. начали формировать свои собственные, отличные от божественных (и, следовательно, неадекватные) представления о том, чтó хорошо и чтó плохо.
Таким образом, признание Природы «вторым» Откровением ставит перед христианами непреходящую задачу герменевтического характера: выработку такой интерпретации Священного Писания с одной стороны и «книги Природы» с другой, которая минимизировала бы противоречия между этими текстами. Отсутствие (или, по крайней мере, незначительность) таких противоречий может служить критерием истинности для интерпретаций обоих типов Откровения. Богословие и естествознание вместе идут к общей цели, которой является Истина, т. е. Бог.
Литература
Андерсен Х. К. Новое платье короля (перев. с датского) // Андерсен Х. К. Сказки. М., изд-во «Эксмо», 2011, стр. 58 – 63.
Боэций. Комментарий к Порфирию (перев. с лат.) // Боэций. «Утешение философией» и другие трактаты. М., изд-во «Наука», 1990, стр. 5 – 144.
Виолован К., Лисовский А. Проблемы абиогенеза как ключ к пониманию несостоятельности эволюционной гипотезы // Божественное откровение и современная наука. Альманах, вып. 2. М., изд-во храма пророка Даниила на Кантемировской, 2005, стр. 77 – 93.
Гайденко П. П. Волюнтативная метафизика и новоевропейская культура // Иванов В. В. (ред.). Три подхода к изучению культуры. М., изд-во МГУ, 1997а, стр. 5 – 74.
Гайденко П. П. Христианство и генезис новоевропейского естествознания // Гайденко П. П. (ред.). Философско-религиозные истоки науки. М., изд-во «Мартис», 1997б, стр. 44 – 87.
Гайденко П. П. Средневековый номинализм и генезис новоевропейского сознания // Христианство и наука. Сборник докладов конференции (28 января 1999 года). М., 2000, стр. 36 – 51.
Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М., изд-во «Мысль», 1979, 620 стр.
Кюнг Г. Начало всех вещей. Естествознание и религия (перев. с нем.). М., изд-во ББИ, 2007, 250 стр.
Майоров Г. Г. Формирование средневековой философии. Латинская патристика. М., изд-во «Мысль», 1979, 431 стр.
Петров М. К. Перед «Книгой природы». Духовные леса и предпосылки научной революции XVII в. // Природа, 1978, № 8, стр. 110 – 119.
Пикок А. Богословие в век науки (перев. с англ.). М., изд-во ББИ, 2004, 416 стр.
Порфирий. Введение к «Категориям» Аристотеля (перев. с греческого) // Аристотель. Категории. М., Государственное словарно-энциклопедическое издательство, 1939, стр. 53 – 83.
Протоиерей Александр Салтыков. Творение мира в святоотеческой традиции // «Вся премудростию сотворил еси…». М., изд-во ПСТГУ, 2011, стр. 6 – 88 (Тр. семинара ПСТГУ «Наука и вера», вып. 1).
Протоиерей Кирилл Копейкин. Книга природы в восточно- и западнохристианской традиции // Два града. Диалог науки и религии: Восточно- и Западноевропейская традиции. Калуга, изд-во Н. Бочкарёвой, 2002, стр. 208 – 227.
Протоиерей Кирилл Копейкин. Что есть реальность? Размышления над произведениями Эрвина Шредингера. СПб, изд-во Санкт-Петербургского университета, 2014, 138 стр.
Рацш Д. Религиозные корни науки (перев. с англ.) // Стюарт М., Печерская Н. А. (ред.). Наука и религия в диалоге. Сборник научных статей. Т. 1. СПб, изд-во Высшей религиозно-философской школы, 2014, стр. 44 – 65.
Св. Афанасий Великий. Слово на язычников // Творения св. Афанасия Великого. Ч. I. Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, 1994, стр. 125 – 191.
Св. блаженный Августин. О граде Божием. Книга восьмая (перев. с лат.) // Творения блаженного Августина, Епископа Иппонийского. Ч. 4. Издание второе. Киев, 1905а (фототипическое издание изд-ва «Жизнь с Богом», Bruxelles, 1974), стр. 1 – 60.
Св. блаженный Августин. Против академиков (перев. с лат.) // Творения блаженного Августина, Епископа Иппонийского. Ч. 2. Издание второе. Киев, 1905б (фототипическое издание изд-ва «Жизнь с Богом», Bruxelles, 1974), стр. 1 – 104.
Св. блаженный Августин. О книге Бытия буквально. Книга неоконченная (перев. с лат.) // Творения блаженного Августина, Епископа Иппонийского. Ч. 7. Издание второе. Киев, 1912 (фототипическое издание изд-ва «Жизнь с Богом», Bruxelles, 1974), стр. 96 – 141.
Св. Василий Великий. Беседы на Шестоднев (перев. с греческого) // Творения иже во святых отца нашего Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской. Ч. I. М., 1845, стр. 1 – 174.
Св. Григорий Богослов. Слово 6 о мире, произнесённое в присутствии отца после предшествовавшего молчания по случаю воссоединения монашествующих (перев. с греческого) // Григорий Богослов. Собрание творений. Т. I. Минск, изд-во «Харвест» – М., изд-во «АСТ», 2000, стр. 175 – 191.
Св. Григорий Нисский. О Шестодневе. Слово защитительное брату Петру (перев. с греческого) // Творения святого Григория Нисского. Ч. 1. М., 1861, стр. 1 – 75 (Творения святых отцов в русском переводе, издаваемые при МДА, т. 37).
Св. Григорий Нисский. Об устроении человека (перев. с греческого) // СПб, изд-во «Аксиома», 1995, 174 стр.
Св. Ефрем Сирин. О рае (перев. с сирийского) // Творения иже во святых отца нашего Ефрема Сирина. Ч. 5. Издание четвёртое. Свято-Троицкая Сергиева лавра, 1900, стр. 259 – 298.
Св. Игнатий Брянчанинов. Слово о человеке. М., изд-во Свято-Введенского монастыря Оптиной Пустыни, 1997, 82 стр.
Св. преп. Иоанн Дамаскин. Источник знания (перев. с греческого) // Полное собрание творений св. Иоанна Дамаскина. Т. I. СПб, издание Императорской С.-Петербургской Духовной Академии, 1913, стр. 45 – 345.
Священник Глеб Каледа. Волхвы. Рождественская проповедь. М., изд-во «Альфа и Омега», 1991, 16 стр.
Священник Константин Буфеев. Ересь эволюционизма // Шестоднев против эволюции. В защиту святоотеческого учения о творении. М., изд-во «Паломник», 2000, стр. 151 – 232.
Сошинский С. А. Шестоднев и наука: проблема согласования или кризис встречи? // «Вся премудростию сотворил еси…». М., изд-во ПСТГУ, 2011, стр. 162 – 243 (Тр. семинара ПСТГУ «Наука и вера», вып. 1).
Талиаферро Ч. Проект естественного богословия (перев. с англ.) // Крейг У. Л., Морленд Дж. П. (ред.). Новое естественное богословие. М., изд-во ББИ, 2014, стр. 1 – 27.
Чайковский Ю. В. О природе случайности. Монография. М., изд-во Центра системных исследований, 2001, 272 стр. (Серия «Ценологические исследования», вып. 18).
Яки С. Спаситель науки (перев. с англ.). М., изд-во Греко-латинского кабинета Ю. А. Шичалина, 1992, 315 стр.
Яннарас Х. Вера Церкви. Введение в православное богословие (перев. с новогреческого). М., изд-во Центра по изучению религий, 1992, 231 стр.
Примечания
[1] Обличая «неправду» язычества, апостол Павел пишет: «Они заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, Который благословен во веки, аминь» (Рим. I, 25). Напротив, отказ от такого почитания прославляется в христианской гимнографии как подвиг исповедничества: «Не послужиша твари богомудрии паче Создавшаго, но огненное прещение мужески поправше, радовахуся поюще: “Препетый отцев Господь и Бог, благословен еси!”» (ирмос 7-ой песни канона Божией Матери 4-го гласа); речь идёт здесь о трёх еврейских юношах, отказавшихся от поклонения идолу, которое вавилонский царь Навуходоносор пытался сделать обязательным в своей стране, и предпочетших сожжение в печи отступлению от веры своих отцов (см. Дан. III, 1 – 56).
[2] Впрочем, как заметил недавно один очень остроумный завсегдатай Интернета, в наши дни этому мальчику было бы предъявлено обвинение как минимум в нарушении правил проведения митингов, а то и в оскорблении чувств верующих. Воистину, это было бы смешно, если бы не было так грустно!
[3] Разумеется, речь идёт здесь преимущественно не об астрономических годах (периодах обращения Земли вокруг Солнца), а о радиометрических, т. е. о периодах, за которые распадаются определённые количества некоторых радиоактивных изотопов. Однако, даже если допустить, что в прошлом численные соотношения между радиометрическими и астрономическими годами отличались от современных, в любом случае история Земли оказывается связанной с колоссальными по продолжительности и трудно представимыми (несоизмеримыми с человеческой жизнью) интервалами времени.
А. В. Гоманьков
ПРИРОДА КАК «ВТОРОЕ» ОТКРОВЕНИЕ
Одним из главных положений христианской рефлексии является утверждение о том, что христианство есть религия богооткровенная. Все остальные (нехристианские) религии с точки зрения христианства суть «естественные» религии. Они выражают естественное стремление человека к Богу или, образно говоря, движение, направленное «снизу вверх», от земли на небо. В отличие от них христианство, со своей собственной точки зрения, выражает движение, направленное «сверху вниз» или с неба на землю. Оно есть результат снисхождения Бога к людям, Его самооткрытия. Таким образом, в основу своего существования христианство полагает Божественное Откровение (от слова «открывать»). Главным «вместилищем» или «формой» этого Откровения считается Священное Писание или Библия – совокупность текстов, составленных в интервале времени примерно от XV в. до н. э. и до II в. н. э. Однако уже с первых веков существования христианства формируется представление о «втором» (т. е. существующем наряду со Священным Писанием) Откровении, в качестве которого рассматривается Природа или «тварный мир» по христианской терминологии. Если мир сотворён Богом, то он несёт на себе как бы отпечаток своего Творца, и человек, изучая этот мир, через его познание отчасти познаёт и Бога, «обнаруживает сокрытого Творца так, как мы видим поэта за словами стихов или художника – за игрою красок» (Яннарас, 1992, стр. 80). Природа в некотором смысле так же может рассматриваться как книга, автором которой является Бог.
Герменевтические отношения между Божественным Откровением и его человеческим восприятием

Создание отчётливого понятия о «книге Природы» обычно приписывается Ф. Бэкону (Протоиерей Кирилл Копейкин, 2014), и это понятие использовалось (в том числе и в религиозном смысле, т. е. в значении «второго» Откровения) многими последующими учёными, например, М. В. Ломоносовым (Священник Глеб Каледа, 1991). Однако, если обращаться к истории, то корни подобных представлений можно усмотреть ещё в самых ранних памятниках христианской письменности. В качестве исходной точки здесь, вероятно, может рассматриваться знаменитый 20-ый стих из I главы Послания св. апостола Павла к Римлянам: «…Невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы...». Ту же идею «прозревания» Творца в твари можно найти в произведениях «золотого века» святоотеческой письменности (IV – V вв. н. э.). Апеллируя к процитированным выше словам св. апостола Павла, св. Афанасий Великий пишет: «Бог благ, человеколюбив, благопопечителен о сотворенных Им душах; и поскольку по естеству Он невидим и непостижим, превыше всякой сотворенной сущности, а род человеческий, произшедший из ничего, не достиг бы ведения о Нем несотворенном, то посему-то самому и привел Он тварь Словом Своим в такое устройство, чтобы Его, невидимого по естеству, могли познавать люди хотя из дел. Ибо из дел нередко познается и такой художник, которого мы не видали… Так и из порядка в мире можно познавать Творца и Создателя его, Бога, хотя и не видим Он телесным очам. Никто не смеет сказать, будто бы Бог во вред нам употребил невидимость естества Своего, и оставил Себя совершенно непознаваемым для людей. Напротив того, по сказанному выше, в такое устройство привел Он тварь, что, хотя невидим по естеству, однако же познается из дел» (Св. Афанасий Великий, 1994, стр. 171 – 172). Великим Художником называет Бога-Творца и св. Василий Великий (1845, стр. 163): «Достанет ли времени описать и поведать все чудеса Художника? Скажем и мы с пророком: яко возвеличашася дела Твоя, Господи: вся премудростию сотворил еси (Псал. 103, 24)». Ту же мысль в своём толковании на Быт. I, 3 – 4 выражает брат св. Василия св. Григорий Нисский (1861). Согласно с ними высказывался и св. Ефрем Сирин (1900, стр. 270): «Моисей в книге своей описал творение природы, чтобы о Творце свидетельствовали и природа, и Писание, – природа, когда пользуемся ею, Писание – когда читаем его. Сии два свидетеля обходят всякую страну, пребывают во все времена, они всегда перед нами и обличают отступников, отрицающих Творца». А св. Григорий Богослов (2000, стр. 185), близкий друг свв. Василия Великого и Григория Нисского прямо писал, что весь природный мир – это «великая и преславная книга Божия, в которой открывается самим безмолвием проповедуемый Бог».
В XIV в. представления о мире как о книге получили широкое распространение в рамках католического богословия, точнее, тогдашней фазы его развития, называемой схоластикой. Метафора «книги Природы» стала первой господствующей познавательной моделью (по терминологии А. П. Огурцова) в последовательности других познавательных моделей, образующей историю европейской науки (Чайковский, 2001). По существу, исторически первой наукой (в современном смысле этого слова) было богословие (Петров, 1978; Яки, 1992; Гайденко, 1997б; Рацш, 2014), а сведения, составившие в дальнейшем фундамент конкретных естественных наук, входили в состав богословской дисциплины, именовавшейся естественным богословием (“theologia naturalis”), и считались источником знаний о Боге и средством приближения к Нему. Эти так называемые «конкретные науки» (физика, химия, биология, геология) отпочковались от богословия в ходе того процесса дифференциации, который характерен для развития науки вообще.
Метафора «книги Природы» имеет важное следствие этического характера. Если мир – это книга, то у этой книги должен быть автор. То, что автором «книги Природы» является Бог, было очевидно даже во времена Ф. Бэкона, не говоря уже о «золотом веке» святоотеческой письменности. Но если «книга Природы» написана Богом, то мы должны её читать и горе нам, если мы этого не делаем! Сегодня мы говорим, что всякая книга пишется в расчёте на определённую читательскую аудиторию, и если мы исключаем себя из «аудитории Бога», то это значит, что мы сознательно отвергаем Слово Божие, обращённое к нам, впадая в грех богоотступничества.
Однако между тем временем, когда христиане осознали тварный мир как книгу, написанную Богом («золотым веком»), и тем временем, когда они начали эту книгу читать (временем рождения естествознания в рамках схоластического богословия), прошла без малого тысяча лет. Причины этого «временнóго разрыва», подробно проанализированные П. П. Гайденко (1997а; 2000) и Д. Рацшем (2014), заслуживают хотя бы краткого рассмотрения в настоящем сообщении.
После издания в 313 г. Миланского эдикта христианство стало, по существу, государственной религией Римской империи. При этом христианское вероучение «вышло» в дискурс позднеантичной культуры, что потребовало его осмысления и изложения на философском языке этой культуры. Доминирующим же философским «интеллектуальным каркасом» в позднеантичной Европе была философская традиция, восходящая к Аристотелю и далее – к Платону. Поэтому учителя Церкви IV и последующих веков усвоили себе язык этой традиции; их идеи и даже самый способ мышления оказались в ней укоренёнными. Св. блаженный Августин, явившийся по существу «отцом» всей западной средневековой философии (помимо того, что он был для неё высшим авторитетом и примером для подражания, можно сказать, что весьма значительную часть её содержания составляют комментарии на его сочинения), писал о платонизме: «Что же касается исследований чистого разума, то я уже так настроен, что если бы особенно сильно пожелал уразуметь что-либо истинное не верою только, но и пониманием, уверен, что найду это у платоников между тем, чтó не противоречит нашей религии» (Св. блаженный Августин, 1905б, стр. 103; см. также Св. блаженный Августин, 1905а). Фактически блаженный Августин превратил философию Платона в фундамент христианской догматики, а его собственную философию можно назвать христианским неоплатонизмом (Майоров, 1979). На Востоке столь же сильному влиянию неоплатонизма были подвержены члены «каппадокийского кружка» – свв. Василий Великий, Григорий Богослов и Григорий Нисский, а в более поздние времена – Псевдо-Дионисий и св. Максим Исповедник. В VIII в. преп. Иоанн Дамасакин, как бы синтезируя всё святоотеческое богословие, создал фундаментальный труд «Источник знания» (Св. преп. Иоанн Дамаскин, 1913), 1-ая часть которого («Философские главы») представляет собой своеобразное философское введение в догматическое богословие и фактически является изложением «Категорий» Аристотеля в их неоплатонистической интерпретации.
Основным содержанием философии Платона является, как известно, учение об идеях – нематериальных основах всех чувственно воспринимаемых предметов, которые представляют собой лишь несовершенные воплощения или «тени» своих идей. Очень важно, что число идей существенно меньше числа предметов, так что разные предметы могут быть воплощением одной и той же идеи, а сами идеи являются умопостигаемыми: они могут быть усвоены только умом в результате рациональной операции обобщения. Неоплатоник Порфирий (232/233 – 304/306) фактически отождествил понятие платоновской идеи с категорией сущности (οὐσία, substantia) Аристотеля (Порфирий, 1939), а христианский философ Боэций (ок. 480 –524/526) перенёс это понимание в сферу латиноязычного философского и богословского мышления (Боэций, 1990). И хотя онтологический статус платоновских «идей» и «сущностей» Аристотеля изначально был различным, представления о том, что всякое бытие подразделяется на существенную и несущественную части (соответственно, субстанцию или природу и акциденцию), стали основой средневековой философии. Одновременно неоплатоники обобщили представления Платона с отдельных вещей на весь мир – стали говорить о некоей общей единой идее или душе мира. Философские системы Платона и Аристотеля были слиты в единую традицию, центрированную на таких понятиях как «сущность» и «субстанция» и ставшую основой христианской философии на многие века, которые обычно называются «средними».
Св. преп. Иоанн Дамаскин (1913, стр. 53) определяет субстанцию следующим образом: «…Субстанция есть самосушая вещь, не нуждающаяся для своего существования в другой». Тем самым вещи приобретают онтологическую самостоятельность, собственную укоренённость в бытии. Природа становится существующей сама по себе, а значит, обретает собственную сакральность, приравнивается к Богу в смысле качества своего существования. Мир в платоновско-аристотелевской традиции обладает рациональной, логической необходимостью, и эта необходимость оказывается «сильнее» даже Бога в отношении производящей или творящей силы, так что Сам Бог вынужден ей подчиняться в Своих действиях. Вещи таковы, каковы они суть, и ведут себя определённым образом, потому что такова их природа. Вот что писал во II в. римский врач и философ Гален (цит. по Гайденко, 2000, стр. 44 – 45): «Нашему Богу недостаточно только захотеть, чтобы возникли или были созданы вещи той или иной природы. Ибо если бы Он захотел мгновенно превратить камень в человека, это было бы не в Его силах. Именно здесь наше собственное учение, так же как и учение Платона и остальных греков… отличается от учения Моисея. Согласно Моисею, Богу достаточно пожелать, чтобы материя приобрела ту или иную форму, и она тем самым приобретёт её. Он считает, что для Бога всё возможно, даже если Он захочет превратить прах в лошадь или быка. Мы же так не думаем, но утверждаем, что некоторые вещи невозможны по природе, и Бог даже не пытается создавать их. Он лишь выбирает наилучшее из возможного». Очевидно, что аристотелианец Гален не был знаком с христианством и противопоставляет свою концепцию иудаизму, но христианство в полной мере унаследовало от иудаизма своё понимание соотношения Бога и Природы и всё то, что Гален пишет о Боге Моисея в полной мере приложимо и к Богу христиан. Понятно также, что подобное платоновско-аристотелевское восприятие Природы есть язычество в широком смысле (обожествление Природы – всей в целом или отдельных её феноменов) и его последовательное философско-религиозное развитие воплощается в линии Платон – Плотин – Спиноза, т. е. приводит к пантеизму, обожествлению того, что в иудео-христианской традиции называется «тварью». На протяжении всей своей истории (и даже иудаистской предыстории) христианство подчёркивало непозволительность почитания твари наравне с Творцом и видело в этом своё главное отличие от язычества [1]. Однако в сфере практического отношения к Природе оно усвоило себе этот платоновско-аристотелианский и, в конечном счёте, языческий подход.
Как отмечает Рацш (2014), экспериментальное изучение Природы, с точки зрения Аристотеля, неэффективно и даже грешно. Поскольку мир логически необходим, то одно чистое умозрение, усвоение логических законов, управляющих миром, оказывается достаточным для его адекватного познания. Эксперимент же искажает подлинное, самодостаточное и, следовательно, сакральное бытие Природы. «Этот общегреческий взгляд был, в разных отношениях, философски плодотворным, но не привёл к устойчивой традиции, которая могла бы быть названной научной в смысле последней Научной Революции. Фактически некоторые из аспектов греческой мысли, очерченные выше, могли препятствовать развитию чего-то подобного современной науке. И это общее влияние надолго пережило саму греческую культуру» (Рацш, 2014, стр. 48).
О Платоне известна следующая легенда. Однажды к нему пришёл один из его учеников и спросил: «Учитель! Почему я могу видеть лошадь своими глазами, а лошадность (т. е. идею лошади) не могу?». «А это потому, – ответил ему Платон, – что глаза для того, чтобы видеть лошадь, у тебя есть, а глаз, чтобы видеть лошадность, – нет!». Эта история представляет собой, очевидно, вымысел, ибо даже Диоген Лаэртский (1979) – большой ценитель и собиратель подобного рода повествований – не приводит её в своей книге. Однако она кажется весьма поучительной, ибо живо перекликается с другой легендой (или, если угодно, сказкой) – историей Х. К. Андерсена (2011) о голом короле. Герои этой истории, два обманщика, так же объявили дураком всякого, кто не видел якобы сотканной ими прекрасной ткани. И все начали восхищаться несуществующим нарядом короля. Аналогично философы античности и раннего средневековья восхищались мудростью Платона, опасаясь, что их так же, как незадачливого ученика, обвинят в отсутствии «умных очей», которыми надлежит созерцать платоновские «идеи». Однако, в отличие от сказки Андерсена, европейской философии потребовалось более полутора тысяч лет, чтобы в лице ранних номиналистов обрести наконец того мальчика, который во всеуслышание объявил: «Да ведь король-то – совсем голый!» [2].
Протоиерей Кирилл Копейкин (2002) связывал зарождение европейского естествознания с деятельностью Бонавентуры (ок. 1218 – 1274) на посту генерала францисканского ордена, а историк науки П. Дюгем называл даже конкретную дату рождения этой науки – 1277 год, когда архиепископ Парижа Стефан Тампье опубликовал 219 тезисов, направленных против аверроистов и тем самым – против Аристотеля. «Несмотря на довольно большое разнообразие этих 219 положений, основной акцент был на идее, что поскольку фундаментальные принципы рациональности логически необходимы и поскольку Бог полностью разумен, то Он должен был творить и руководить космосом способом, который строго диктуется принципами рациональности. Епископ отверг это как нарушение суверенной свободы Бога творить и руководить так, как Он свободно избрал» (Рацш, 2014, стр. 60). Так или иначе, но возникновение европейской науки оказалось связанным с той «философской революцией» конца XIII – начала XIV в., которую Гайденко (1997а) назвала переходом от метафизики бытия к метафизике воли. От языческой по своей сути платоновско-аристотелевской традиции христианство вернулось к своей собственной традиции Откровения, данного в Ветхом и Новом Завете, где Бог – Творец и Правитель Вселенной – трактуется, прежде всего, как беспредельное всемогущество, абсолютно свободное и не ограниченное никаким природным бытием. Мир вновь обрёл статус Божиего творения, и его эмпирическое и экспериментальное изучение становится возможным и даже необходимым. Очень точно суть этой революции в христианской философии в 1720 г., т. е. уже на исходе собственно научной революции, выразил Коттон Мэзер, американский зоолог и пуританский проповедник: «…Не существует такой вещи, как универсальная Душа, оживляющая огромную систему Мира, как у Платона; ни каких-либо субстанциальных Форм, как у Аристотеля… Эти неразумные Сущие умаляют Мудрость и Силу великого Бога, способного с лёгкостью руководить Машиной, которую Он мог бы создать посредством гораздо более прямых Методов, чем использование таких подчинённых божеств... Теперь стало ясно из самых очевидных принципов, что великий Бог… имел истоки этой огромной машины и все части её в Своих собственных Руках…» (цит. по Рацш, 2014, стр. 55 – 56).
Таким образом, схоластика конца XIII – начала XIV в. явилась средой зарождения того феномена человеческой культуры, который мы теперь называем естествознанием. Одну из своих сверхзадач схоластика видела в доказательстве существования Бога, рациональном обосновании истин христианской веры. На службу этой сверхзадачи было поставлено и зарождающееся в виде «естественного богословия» естествознание, что привело в дальнейшем к искажению смысла самогó понятия «естественное богословие»: под этим термином стали понимать любые доказательства бытия Божия – даже те из них, которые не имеют никакого отношения к природному миру и изучающим его естественным наукам. Например, программная статья, которая открывает недавно вышедшую на русском языке фундаментальную сводку «Новое естественное богословие», начинается таким определением: «Естественное богословие – это практика философского размышления о существовании и природе Бога независимо от подлинного или мнимого божественного откровения или священного писания» (Талиаферро, 2014, стр. 1; курсив мой – АГ). Но даже если ограничить «естественное богословие» его первоначальным содержанием, с православной точки зрения очевидно, что задача, поставленная перед ним схоластикой, была бесперспективной. Бытие Бога не может быть доказано (равно, как и опровергнуто) средствами естествознания так же, как оно не может быть доказано любыми другими средствами. Бог не навязывает нам Себя принудительным путём, Он хочет от нас подвига веры, т. е. свободного выбора нашей воли.
Эта бесперспективность естественно-научного доказательства бытия Божия выяснялась примерно к началу XIХ в. Оказалось, что наука может существовать совершенно независимо от богословия; можно быть, например, хорошим физиком или биологом и при этом исповедывать атеизм, т. е. вообще не верить в Бога. До осознания теоремы Гёделя в те времена было ещё очень далеко (будучи доказанной в 1931 г., она даже в XX в. вызвала впечатление взорвавшейся бомбы), поэтому тот факт, что наука оказалась неспособной доказать существование Бога, был истолкован в виде тезиса «Наука доказала, что Бога нет», который в начале XX в. был принят на вооружение государственной атеистической пропагандой в Советской России.
Тем не менее, эта логическая независимость естествознания и богословия не может служить аргументом против всей познавательной модели, рассматривающей Природу как книгу, написанную Богом. Да, бытие Бога не может быть доказано средствами естествознания, но если мы примем (в силу каких-либо вненаучных соображений), что Бог существует, то естествознание может многое рассказать нам о Нём, о том, Какой Он, как и каким образом Он творил мир в прошлом, а ныне взаимодействует с ним и им управляет. «…Если мир сотворён Богом, научное знание должно углублять и прояснять наше понимание Бога и отношения Бога к творению…» (Пикок, 2004, стр. 9).
Например, развитие космологии и абсолютной геохронологии в XX в. потребовало включения в христианский богословский дискурс того феномена, который получил название «мегавремя» (Сошинский, 2011). Стало понятно, что процесс творения Богом мира был процессом (по нашим человеческим меркам) чрезвычайно медленным. События сотворения отдельных природных феноменов, о которых говорится в книге Бытия, были отделены друг от друга сотнями миллионов и миллиардами лет [3], а «дочеловеческая» история мира продолжалась в десятки тысяч раз дольше, чем вся последующая история человечества. Образно говоря, Бог «не торопился», когда создавал мир, и мы должны включить этот факт в свои представления о Боге, каким бы неожиданным он нам ни казался в свете сложившихся представлений христианского богословия.
Или другой пример. Из повседневной жизни нам хорошо известен феномен размножения животных и растений, и сейчас вряд ли кто-нибудь станет оспаривать тот факт, что всякий живой организм происходит от своих родителей – других организмов, в чём-то сходных с ним самим. В XIX в. теория Дарвина перенесла этот «принцип происхождения» с отдельных организмов на биологические таксоны, а космология, развитая в XX в., сделала его всеобщим «законом природы». Ныне для любого феномена, возникшего после Большого Взрыва, правомерным, по крайней мере, является вопрос о том, из чего этот феномен возник. Если же переформулировать данные представления на богословском языке, то мы должны будем признать, что из ничего («ex nihilo») Бог сотворил лишь какие-то самые первые и самые примитивные формы материи, а всё остальное Он творил из чего-то, что было сотворено раньше («ex aliquo»). Эта идея, находящая подтверждение в Библии (см. Быт. I, 11 – 12, 20 – 21, 24 – 25; II, 7), ещё в XIX в. была отчётливо выражена св. Игнатием Брянчаниновым (1997, стр. 19): «…Творил Он из преждесотворённых тварей твари новые единым словом»; однако её до сих пор нельзя назвать общеизвестной и общепринятой в христианском богословии. Иногда приходится сталкиваться с богословскими сочинениями, авторы которых, спекулируя на том, что некоторые из «проблем происхождения» (особенно часто речь идёт о происхождении жизни) остаются до сих пор не решёнными в рамках естествознания, пытаются дискредитировать положительные достижения науки и их значение для христианского мировоззрения (см., например, Виолован, Лисовский, 2005). Впрочем, подобные взгляды, получившие наименование богословия «белых пятен», кажется, постепенно изживаются из христианского дискурса и уже не могут считаться принадлежащими к его «мейнстриму» (Кюнг, 2007).
В качестве третьего примера влияния естествознания на богословие можно обратить внимание на следующее обстоятельство. Среди современных православных богословов (см., например, Священник Константин Буфеев, 2000; Протоиерей Александр Салтыков, 2011 и др.) широко распространено мнение о том, что до грехопадения Адама и Евы животные на Земле не умирали: «Бог не сотворил смерти» (Прем. I, 13), а смерть животных есть зло, несовместимое с «хорошим весьма» («райским») состоянием, которого наша планета достигла к концу шестого «дня» творения (Быт. I, 31), и возникшее лишь в результате грехопадения и после него. Это мнение, однако, находится в вопиющем противоречии с показаниями палеонтологической летописи, свидетельствующими о том, что животные начали умирать фактически с момента своего появления на Земле, т. е. задолго до возникновения первых людей и, следовательно, до грехопадения. Таким образом, данные палеонтологии показывают, что смерть животных так же должна рассматриваться как элемент Божьего творения и в таком качестве она являлась благом, причастным Божеству. Все негативные упоминания о «смерти вообще» как в Священном Писании (см., например, процитированный выше стих из книги Премудрости Соломона), так и в творениях святых отцов должны интерпретироваться как относящиеся лишь к миру людей, т. е. к человечеству (во всём мире только человек был сотворён бессмертным и утратил это своё богоподобное свойство в результате грехопадения; см. также Св. Григорий Нисский, 1995; Св. блаженный Августин, 1912). А признание смерти животных злом появилось благодаря тому, что Адам и Ева «вкусили плодов от дерева познания добра и зла», т. е. начали формировать свои собственные, отличные от божественных (и, следовательно, неадекватные) представления о том, чтó хорошо и чтó плохо.
Таким образом, признание Природы «вторым» Откровением ставит перед христианами непреходящую задачу герменевтического характера: выработку такой интерпретации Священного Писания с одной стороны и «книги Природы» с другой, которая минимизировала бы противоречия между этими текстами. Отсутствие (или, по крайней мере, незначительность) таких противоречий может служить критерием истинности для интерпретаций обоих типов Откровения. Богословие и естествознание вместе идут к общей цели, которой является Истина, т. е. Бог.
Литература
Андерсен Х. К. Новое платье короля (перев. с датского) // Андерсен Х. К. Сказки. М., изд-во «Эксмо», 2011, стр. 58 – 63.
Боэций. Комментарий к Порфирию (перев. с лат.) // Боэций. «Утешение философией» и другие трактаты. М., изд-во «Наука», 1990, стр. 5 – 144.
Виолован К., Лисовский А. Проблемы абиогенеза как ключ к пониманию несостоятельности эволюционной гипотезы // Божественное откровение и современная наука. Альманах, вып. 2. М., изд-во храма пророка Даниила на Кантемировской, 2005, стр. 77 – 93.
Гайденко П. П. Волюнтативная метафизика и новоевропейская культура // Иванов В. В. (ред.). Три подхода к изучению культуры. М., изд-во МГУ, 1997а, стр. 5 – 74.
Гайденко П. П. Христианство и генезис новоевропейского естествознания // Гайденко П. П. (ред.). Философско-религиозные истоки науки. М., изд-во «Мартис», 1997б, стр. 44 – 87.
Гайденко П. П. Средневековый номинализм и генезис новоевропейского сознания // Христианство и наука. Сборник докладов конференции (28 января 1999 года). М., 2000, стр. 36 – 51.
Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М., изд-во «Мысль», 1979, 620 стр.
Кюнг Г. Начало всех вещей. Естествознание и религия (перев. с нем.). М., изд-во ББИ, 2007, 250 стр.
Майоров Г. Г. Формирование средневековой философии. Латинская патристика. М., изд-во «Мысль», 1979, 431 стр.
Петров М. К. Перед «Книгой природы». Духовные леса и предпосылки научной революции XVII в. // Природа, 1978, № 8, стр. 110 – 119.
Пикок А. Богословие в век науки (перев. с англ.). М., изд-во ББИ, 2004, 416 стр.
Порфирий. Введение к «Категориям» Аристотеля (перев. с греческого) // Аристотель. Категории. М., Государственное словарно-энциклопедическое издательство, 1939, стр. 53 – 83.
Протоиерей Александр Салтыков. Творение мира в святоотеческой традиции // «Вся премудростию сотворил еси…». М., изд-во ПСТГУ, 2011, стр. 6 – 88 (Тр. семинара ПСТГУ «Наука и вера», вып. 1).
Протоиерей Кирилл Копейкин. Книга природы в восточно- и западнохристианской традиции // Два града. Диалог науки и религии: Восточно- и Западноевропейская традиции. Калуга, изд-во Н. Бочкарёвой, 2002, стр. 208 – 227.
Протоиерей Кирилл Копейкин. Что есть реальность? Размышления над произведениями Эрвина Шредингера. СПб, изд-во Санкт-Петербургского университета, 2014, 138 стр.
Рацш Д. Религиозные корни науки (перев. с англ.) // Стюарт М., Печерская Н. А. (ред.). Наука и религия в диалоге. Сборник научных статей. Т. 1. СПб, изд-во Высшей религиозно-философской школы, 2014, стр. 44 – 65.
Св. Афанасий Великий. Слово на язычников // Творения св. Афанасия Великого. Ч. I. Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, 1994, стр. 125 – 191.
Св. блаженный Августин. О граде Божием. Книга восьмая (перев. с лат.) // Творения блаженного Августина, Епископа Иппонийского. Ч. 4. Издание второе. Киев, 1905а (фототипическое издание изд-ва «Жизнь с Богом», Bruxelles, 1974), стр. 1 – 60.
Св. блаженный Августин. Против академиков (перев. с лат.) // Творения блаженного Августина, Епископа Иппонийского. Ч. 2. Издание второе. Киев, 1905б (фототипическое издание изд-ва «Жизнь с Богом», Bruxelles, 1974), стр. 1 – 104.
Св. блаженный Августин. О книге Бытия буквально. Книга неоконченная (перев. с лат.) // Творения блаженного Августина, Епископа Иппонийского. Ч. 7. Издание второе. Киев, 1912 (фототипическое издание изд-ва «Жизнь с Богом», Bruxelles, 1974), стр. 96 – 141.
Св. Василий Великий. Беседы на Шестоднев (перев. с греческого) // Творения иже во святых отца нашего Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской. Ч. I. М., 1845, стр. 1 – 174.
Св. Григорий Богослов. Слово 6 о мире, произнесённое в присутствии отца после предшествовавшего молчания по случаю воссоединения монашествующих (перев. с греческого) // Григорий Богослов. Собрание творений. Т. I. Минск, изд-во «Харвест» – М., изд-во «АСТ», 2000, стр. 175 – 191.
Св. Григорий Нисский. О Шестодневе. Слово защитительное брату Петру (перев. с греческого) // Творения святого Григория Нисского. Ч. 1. М., 1861, стр. 1 – 75 (Творения святых отцов в русском переводе, издаваемые при МДА, т. 37).
Св. Григорий Нисский. Об устроении человека (перев. с греческого) // СПб, изд-во «Аксиома», 1995, 174 стр.
Св. Ефрем Сирин. О рае (перев. с сирийского) // Творения иже во святых отца нашего Ефрема Сирина. Ч. 5. Издание четвёртое. Свято-Троицкая Сергиева лавра, 1900, стр. 259 – 298.
Св. Игнатий Брянчанинов. Слово о человеке. М., изд-во Свято-Введенского монастыря Оптиной Пустыни, 1997, 82 стр.
Св. преп. Иоанн Дамаскин. Источник знания (перев. с греческого) // Полное собрание творений св. Иоанна Дамаскина. Т. I. СПб, издание Императорской С.-Петербургской Духовной Академии, 1913, стр. 45 – 345.
Священник Глеб Каледа. Волхвы. Рождественская проповедь. М., изд-во «Альфа и Омега», 1991, 16 стр.
Священник Константин Буфеев. Ересь эволюционизма // Шестоднев против эволюции. В защиту святоотеческого учения о творении. М., изд-во «Паломник», 2000, стр. 151 – 232.
Сошинский С. А. Шестоднев и наука: проблема согласования или кризис встречи? // «Вся премудростию сотворил еси…». М., изд-во ПСТГУ, 2011, стр. 162 – 243 (Тр. семинара ПСТГУ «Наука и вера», вып. 1).
Талиаферро Ч. Проект естественного богословия (перев. с англ.) // Крейг У. Л., Морленд Дж. П. (ред.). Новое естественное богословие. М., изд-во ББИ, 2014, стр. 1 – 27.
Чайковский Ю. В. О природе случайности. Монография. М., изд-во Центра системных исследований, 2001, 272 стр. (Серия «Ценологические исследования», вып. 18).
Яки С. Спаситель науки (перев. с англ.). М., изд-во Греко-латинского кабинета Ю. А. Шичалина, 1992, 315 стр.
Яннарас Х. Вера Церкви. Введение в православное богословие (перев. с новогреческого). М., изд-во Центра по изучению религий, 1992, 231 стр.
Примечания
[1] Обличая «неправду» язычества, апостол Павел пишет: «Они заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, Который благословен во веки, аминь» (Рим. I, 25). Напротив, отказ от такого почитания прославляется в христианской гимнографии как подвиг исповедничества: «Не послужиша твари богомудрии паче Создавшаго, но огненное прещение мужески поправше, радовахуся поюще: “Препетый отцев Господь и Бог, благословен еси!”» (ирмос 7-ой песни канона Божией Матери 4-го гласа); речь идёт здесь о трёх еврейских юношах, отказавшихся от поклонения идолу, которое вавилонский царь Навуходоносор пытался сделать обязательным в своей стране, и предпочетших сожжение в печи отступлению от веры своих отцов (см. Дан. III, 1 – 56).
[2] Впрочем, как заметил недавно один очень остроумный завсегдатай Интернета, в наши дни этому мальчику было бы предъявлено обвинение как минимум в нарушении правил проведения митингов, а то и в оскорблении чувств верующих. Воистину, это было бы смешно, если бы не было так грустно!
[3] Разумеется, речь идёт здесь преимущественно не об астрономических годах (периодах обращения Земли вокруг Солнца), а о радиометрических, т. е. о периодах, за которые распадаются определённые количества некоторых радиоактивных изотопов. Однако, даже если допустить, что в прошлом численные соотношения между радиометрическими и астрономическими годами отличались от современных, в любом случае история Земли оказывается связанной с колоссальными по продолжительности и трудно представимыми (несоизмеримыми с человеческой жизнью) интервалами времени.
четверг, 07 июня 2018
Мне доводилось уже тут писать (megatherium.diary.ru/p202664182.htm), что в 2014 – 2015 гг. я в течение года вёл полемику по эволюционно-христианской тематике с жителем г. Перми С. И. Огарышевым на поддерживаемом им сайте «Базальтовые технологии» (basaltech.org/forum/forum8/topic425/messages/). В начале дискуссии Огарышев позиционировал себя как православного креациониста. Дискуссия закончилась в феврале 2015 г. ввиду её полной дальнейшей бесперспективности: Огарышев стал обвинять меня в сатанизме и прочих смертных грехах, абсолютно игнорируя содержание моих сообщений. Однако, заглянув недавно на сайт «Базальтовые технологии», я обнаружил, что летом 2017 г., т. е. через 2,5 года после «закрытия» дискуссии, он добавил к ней ещё одно сообщение следующего содержания:
"Цитата
Сергей Огарышев написал:
Алексей Владимирович, вот видите, какой я добрый по отношению к Вам. Даже рекламу Вашей книги, которая есть суть сатанизм не удаляю со своего ресурса. Где Вы найдете еще такое? В начале своего доклада Вы говорите, что Вы с детства являетесь членом Церкви. Но Вы не член Церкви, Вы – ее враг. Я уже не знаю, что такое Русская Православная Церковь после того, сколько бесов в рясах вещающих теорию эволюции в ней увидел. Сатана их бог, а не Христос. Если даже Патриарх признает теорию эволюции, что собственно наполовину он уже сделал, то это ничего не меняет. Это будет лишь означать то, что конец стал еще ближе. И будет все ваше собрание иуд в такой церкви вместо Христа поклонятся орангутангу и петь ему свои эволюционные дифирамбы. А может быть Бог вас всех в страшных обезьян и превратит перед самым концом, чтобы в огонь вечный в наказание вас не в образе человека отправить, а в образе вашего предка, которому вы все дружно поклонялись и от которого происходили миллионы лет. Вот тогда и вкусите сполна, что такое миллионы и миллиарды лет гнева Божия. Какой Вы ученый тоже все здесь прекрасно увидели. Вы говорили, что сгнившее дерево на руднике должно гнить еще 150 лет, долго упорствовали в этом, в итоге так и не признали своей ошибки. Если Вы не знаете, сколько лет будет гнить дерево в современном лесу, то о каких миллионах и миллиардах лет может быть речь? Вся Ваша наука и манера вести дискуссию – шулерство. Я Вас не воспринимаю более всерьез.
Здравствуйте Алексей Владимирович, со времени моего последнего сообщения в настоящей теме прошло почти два с половиной года. За это время я изменился. За свое сообщение выделенное в этом сообщении в цитату, а также за подобные свои высказывания, искренне прошу у Вас прощение. Я раскаиваюсь в этом. Теперь я осознаю, что часто говорил в агрессивном духе с Вами. Больше такого не повторится. В то время, когда была открыта эта меня и велась дискуссия между нами, меня интересовало Православие, я очень хотел стать православным человеком и стремился к этому. Тогда меня очень удивил тот факт, что многие православные СМИ и священники отрицают планетарный масштаб Всемирного потопа и популяризируют теорию эволюции. Я кипел против этого. Но со временем понял, что такое Православие и оно перестало быть для меня интересным. Я никогда не стану православным, я отрекаюсь от этой страшной религии. Мои доводы против Православия опубликованы здесь: «Идолы Православия» <все мои попытки открыть и прочитать данный текст успехом не увенчались – СМ>. Вам же я желаю мира и благополучия во всем. Да благословит Вас, Ваших родных и близких очень сильно Бог!"
Вот такой своеобразный «плод» вырос на раскидистом «дереве» креационизма.
«Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнáете их. Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы? Так всякое доброе дерево приносит и плоды добрые; а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнáете их» (Матф. VII, 15 – 20).
Сергей Огарышев написал:
Алексей Владимирович, вот видите, какой я добрый по отношению к Вам. Даже рекламу Вашей книги, которая есть суть сатанизм не удаляю со своего ресурса. Где Вы найдете еще такое? В начале своего доклада Вы говорите, что Вы с детства являетесь членом Церкви. Но Вы не член Церкви, Вы – ее враг. Я уже не знаю, что такое Русская Православная Церковь после того, сколько бесов в рясах вещающих теорию эволюции в ней увидел. Сатана их бог, а не Христос. Если даже Патриарх признает теорию эволюции, что собственно наполовину он уже сделал, то это ничего не меняет. Это будет лишь означать то, что конец стал еще ближе. И будет все ваше собрание иуд в такой церкви вместо Христа поклонятся орангутангу и петь ему свои эволюционные дифирамбы. А может быть Бог вас всех в страшных обезьян и превратит перед самым концом, чтобы в огонь вечный в наказание вас не в образе человека отправить, а в образе вашего предка, которому вы все дружно поклонялись и от которого происходили миллионы лет. Вот тогда и вкусите сполна, что такое миллионы и миллиарды лет гнева Божия. Какой Вы ученый тоже все здесь прекрасно увидели. Вы говорили, что сгнившее дерево на руднике должно гнить еще 150 лет, долго упорствовали в этом, в итоге так и не признали своей ошибки. Если Вы не знаете, сколько лет будет гнить дерево в современном лесу, то о каких миллионах и миллиардах лет может быть речь? Вся Ваша наука и манера вести дискуссию – шулерство. Я Вас не воспринимаю более всерьез.
Здравствуйте Алексей Владимирович, со времени моего последнего сообщения в настоящей теме прошло почти два с половиной года. За это время я изменился. За свое сообщение выделенное в этом сообщении в цитату, а также за подобные свои высказывания, искренне прошу у Вас прощение. Я раскаиваюсь в этом. Теперь я осознаю, что часто говорил в агрессивном духе с Вами. Больше такого не повторится. В то время, когда была открыта эта меня и велась дискуссия между нами, меня интересовало Православие, я очень хотел стать православным человеком и стремился к этому. Тогда меня очень удивил тот факт, что многие православные СМИ и священники отрицают планетарный масштаб Всемирного потопа и популяризируют теорию эволюции. Я кипел против этого. Но со временем понял, что такое Православие и оно перестало быть для меня интересным. Я никогда не стану православным, я отрекаюсь от этой страшной религии. Мои доводы против Православия опубликованы здесь: «Идолы Православия» <все мои попытки открыть и прочитать данный текст успехом не увенчались – СМ>. Вам же я желаю мира и благополучия во всем. Да благословит Вас, Ваших родных и близких очень сильно Бог!"
Вот такой своеобразный «плод» вырос на раскидистом «дереве» креационизма.
«Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнáете их. Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы? Так всякое доброе дерево приносит и плоды добрые; а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнáете их» (Матф. VII, 15 – 20).
Очевидно, что Огарышевым и до того, как он «изменился», и после этого двигала ненависть к эволюции. Ненависть настолько сильная, что ради неё он отрёкся от Православной Церкви. Хоть он и кается в том, что обвинял меня в сатанизме, но чтó ему отвечать, по-прежнему непонятно. Никакие богословские аргументы с моей стороны на него, скорее всего, не подействуют, т. к. я в такой аргументации могу опираться лишь на веру Православной Церкви. Естественно-научные аргументы не подействуют тем более, ибо по опыту предшествующей дискуссии я знаю, что он отказывается верить в реальность эмпирических фактов, добытых естествознанием (например, в то, что в центральных областях Русской платформы ордовик залегает на глубине около 1,5 км). По существу мы имеем здесь дело с новой разновидностью креационизма, не учтённой мною в статье «Как описать историю мира?» (megatherium.diary.ru/p127390412.htm). Такой креационизм можно назвать «эмоциональным», и основа его – чисто эстетическое неприятие понятия эволюции. К сожалению, кажется весьма вероятным, что многие проповедники «патрологического» или «научного» креационизма на самом деле так же являются «эмоциональными» креационистами: рациональные аргументы, которые они выставляют в защиту своей позиции, суть лишь благовидное «прикрытие» её подлинной основы, которая имеет чисто эмоциональный характер.
В связи с этим мне вспоминается рассуждение моего брата Николая Байтова из рассказа «Истоки славянофильства и западничества» (www.levin.rinet.ru/FRIENDS/BYTOV/detskij.html#2): «Мне думается, что поговорка “о вкусах не спорят”, как и почти все речения, относимые к так называемой “народной мудрости”, есть пошлость, — и в качестве таковой не верна. Напротив, если задуматься, так о чем же спорить, как не о вкусах? — не об идеях же! Благодаря современной тотальной толерантности мы можем совсем уже легко и приятно общаться с людьми любых убеждений… могли бы — если бы эти убеждения обосновывались чисто логически и сквозь них не просвечивала вкусовая подоплека… Нет, более того, — это не просто подоплека, вкусы — это активная субстанция, которая генерирует идеи и убеждения, испускает их как некий смрад, — и мы задыхаемся в чуждой нам атмосфере…».
Я совершенно согласен с последней фразой процитированного отрывка, но не могу согласиться с тем, что люди, как правило, спорят именно о вкусах. Во всяком случае, я сам спорить о вкусах не умею, не люблю и не хочу. И именно по той причине, что «задыхаюсь в чуждой мне атмосфере». Как только в споре начинает «просвечивать вкусовая подоплёка», для меня участие в таком споре становится невыносимо скучным и я стараюсь как-нибудь поскорее его завершить. «Бесконечное повторение на разные лады двух фраз» кажется мне каким-то бессмысленным и бесцельным самоистязанием, а воспоминание о споре относительно места нашего проживания, который мы когда-то вели с Байтовым и который он описал в упомянутом рассказе, вызывает во мне чувство стыда (как, впрочем, бόльшая часть моих воспоминаний о собственном прошлом).
Против всего, сказанного выше о спорах, можно, однако, выдвинуть следующее возражение. Цель, которую преследует всякий участник спора, заключается, по-видимому, в том, чтобы убедить своего оппонента в собственной правоте и, соответственно, в его неправоте. Но если его «идеи и убеждения» генерируются его вкусами, то всякий спор есть в конечном счёте спор о вкусах и, если я отказываюсь спорить о вкусах, то я тем самым отказываюсь от любых споров вообще: всякий спор превращается в «бессмысленное и бесцельное самоистязание». Думается, впрочем, что убеждение своего оппонента в его неправоте на самом деле не есть цель всякого спора, во всяком случае, не есть его главная цель. Спор – это ритуал, т. е. действие со значительным (как по объёму, так и по смыслу) выходом «побочного продукта», который благодаря своей значительности даже перестаёт быть «побочным» и de facto превращается в главную цель всего действия. Таким «побочным» результатом спора мне представляется уточнение своей собственной позиции. В столкновении с возражениями оппонента моё мнение как бы «закаляется»: я «оттачиваю» формулировки, изобретаю аргументы, которые могут иметь значение, если не универсальное, то во всяком случае более широкое по сравнению с контекстом данного спора. Именно в этом мне видится смысл другого «речения народной мудрости», которое яростно отрицал мой учитель С. В. Мейен (www.ginras.ru/library/pdf/meyen2006_princ_sochu...): «В спорах рождается истина». Именно в спорах мои смутные и косноязычно описанные догадки формируются в кристальные истины, которые, по словам В. Ю. Милитарёва, я готов отстаивать до последней капли своего интеллекта.
Возвращаясь к адептам «эмоционального креационизма», можно сделать вывод, что никакой рациональный диалог с ними не может быть эффективным в смысле «первой» цели диалога (переубеждения оппонента). Эффективным может быть только стремление ко «второй» цели (уточнение собственной концепции), да и то лишь до тех пор, пока диалог не вышел на уровень спора о вкусах. Каких-либо путей к общению с креационистами на этом уровне я пока, к сожалению, не вижу.
В связи с этим мне вспоминается рассуждение моего брата Николая Байтова из рассказа «Истоки славянофильства и западничества» (www.levin.rinet.ru/FRIENDS/BYTOV/detskij.html#2): «Мне думается, что поговорка “о вкусах не спорят”, как и почти все речения, относимые к так называемой “народной мудрости”, есть пошлость, — и в качестве таковой не верна. Напротив, если задуматься, так о чем же спорить, как не о вкусах? — не об идеях же! Благодаря современной тотальной толерантности мы можем совсем уже легко и приятно общаться с людьми любых убеждений… могли бы — если бы эти убеждения обосновывались чисто логически и сквозь них не просвечивала вкусовая подоплека… Нет, более того, — это не просто подоплека, вкусы — это активная субстанция, которая генерирует идеи и убеждения, испускает их как некий смрад, — и мы задыхаемся в чуждой нам атмосфере…».
Я совершенно согласен с последней фразой процитированного отрывка, но не могу согласиться с тем, что люди, как правило, спорят именно о вкусах. Во всяком случае, я сам спорить о вкусах не умею, не люблю и не хочу. И именно по той причине, что «задыхаюсь в чуждой мне атмосфере». Как только в споре начинает «просвечивать вкусовая подоплёка», для меня участие в таком споре становится невыносимо скучным и я стараюсь как-нибудь поскорее его завершить. «Бесконечное повторение на разные лады двух фраз» кажется мне каким-то бессмысленным и бесцельным самоистязанием, а воспоминание о споре относительно места нашего проживания, который мы когда-то вели с Байтовым и который он описал в упомянутом рассказе, вызывает во мне чувство стыда (как, впрочем, бόльшая часть моих воспоминаний о собственном прошлом).
Против всего, сказанного выше о спорах, можно, однако, выдвинуть следующее возражение. Цель, которую преследует всякий участник спора, заключается, по-видимому, в том, чтобы убедить своего оппонента в собственной правоте и, соответственно, в его неправоте. Но если его «идеи и убеждения» генерируются его вкусами, то всякий спор есть в конечном счёте спор о вкусах и, если я отказываюсь спорить о вкусах, то я тем самым отказываюсь от любых споров вообще: всякий спор превращается в «бессмысленное и бесцельное самоистязание». Думается, впрочем, что убеждение своего оппонента в его неправоте на самом деле не есть цель всякого спора, во всяком случае, не есть его главная цель. Спор – это ритуал, т. е. действие со значительным (как по объёму, так и по смыслу) выходом «побочного продукта», который благодаря своей значительности даже перестаёт быть «побочным» и de facto превращается в главную цель всего действия. Таким «побочным» результатом спора мне представляется уточнение своей собственной позиции. В столкновении с возражениями оппонента моё мнение как бы «закаляется»: я «оттачиваю» формулировки, изобретаю аргументы, которые могут иметь значение, если не универсальное, то во всяком случае более широкое по сравнению с контекстом данного спора. Именно в этом мне видится смысл другого «речения народной мудрости», которое яростно отрицал мой учитель С. В. Мейен (www.ginras.ru/library/pdf/meyen2006_princ_sochu...): «В спорах рождается истина». Именно в спорах мои смутные и косноязычно описанные догадки формируются в кристальные истины, которые, по словам В. Ю. Милитарёва, я готов отстаивать до последней капли своего интеллекта.
Возвращаясь к адептам «эмоционального креационизма», можно сделать вывод, что никакой рациональный диалог с ними не может быть эффективным в смысле «первой» цели диалога (переубеждения оппонента). Эффективным может быть только стремление ко «второй» цели (уточнение собственной концепции), да и то лишь до тех пор, пока диалог не вышел на уровень спора о вкусах. Каких-либо путей к общению с креационистами на этом уровне я пока, к сожалению, не вижу.
воскресенье, 23 апреля 2017
Дионисий. Уверение фомы. 1499. ГРМ

Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Воскресение Христово было реальностью, историческим фактом в самом «предельном» смысле этого слова, какой только может вообразить себе человек. И на это указывает эпизод с апостолом Фомой. Фома потребовал самого предельного удостоверения – «потрогать руками», и это требование было удовлетворено. Удовлетворено, думается, для того, чтобы никто не считал Евангелие иносказанием. Какой смысл рассказывать басню о том, что она сама не есть басня? Итак, воскресение Христа есть факт в любом представимом смысле. В него можно верить или не верить, но нельзя «верить в каком-то смысле» (а в каком-то другом, соответственно, не верить). [Совершенно нелепыми и бессмысленными представляются попытки «доказать» факт Воскресения на основании «показаний» жён-мироносиц (Макгрю Т., Макгрю Л., 2014). В Евангелии прямо повествуется о явлении воскресшего Спасителя ученикам, на таком же уровне достоверности, как и о рассказах жён-мироносиц (которым, кстати, и сами апостолы не поверили, пока Христос не явился им воочию - Мк. XVI, 9 - 14; Лук. XXIV, 9 - 11). Если мы не верим этим прямым показаниям евангелистов, то почему мы должны верить в то, что жёны-мироносицы вообще существовали и что бы то ни было рассказывали?].
Можно ли этот «анти-фабулистский» [о термине «фабулизм» см. (Гоманьков, 2010), а также на настоящем сайте megatherium.diary.ru/p127390412.htm] подход распространить на I главу книги Бытия? К. Каннингэм даёт категорически отрицательный ответ на этот вопрос : "...As Barr says, 'It is easy to see how Paul, wishing to make clear the completeness and finality of Christ’s victory over sin, looked to the story of Adam and found in it the typology that he needed' <речь идёт о толковании Рим. V, 12 -21 - СМ>. This is of course true, but in doing this Paul was not making a mistake, because Christ’s passion should indeed cause us to look at the Scriptures precisely in this way. But after doing so we can’t then prioritize that which is found only because of Christ. We can’t make Adam first, or in a very particular sense real. To quote Barr again, 'Paul was not interpreting the story in and for itself; he was really interpreting Christ through the use of images from the story'. This is certainly correct, but there is something left unsaid, namely, that there is no story in itself. For if we presume there to be such a thing — if we presume the Scriptures can exist or be read except through Christ — then we fall on folly, for there is no history without Christ" (Cunningham, 2010, p. 397).
Думается, однако, что Каннингэм "в сем случае совсем не прав". I глава Бытия читается в качестве паримии на вечерне в 1-ую неделю поста, а затем ещё в Великую Субботу, чем действительно подчёркивается смысловая связь этого текста с фактом Воскресения. Конечно, паримия – это лишь пророчество о реальности, которой только ещё предстоит быть, но в данном случае паримию можно также с полным правом назвать прообразованием, когда не слово, не рассказ о каких-то событиях, но сами эти события выступают в качестве формы знаков, смысл которых – некоторая грядущая реальность. Соответственно, сами эти события должны рассматриваться как историческая реальность; они обладают таким же онтологическим статусом, как, скажем, те буквы, которыми написан текст Священного Писания.
Когда я беру в руки свои «ископаемые» (остатки организмов, населявших Землю в далёком прошлом), я получаю такое же удостоверение в отношении к свидетельству Бытописателя, как получил апостол Фома в отношении к словам других учеников «Мы видели Господа» (Иоанн, XX, 25).
Раковины брахиопод Aulosteges gigas из пермских отложений Кировской области

В упомянутой статье 2010-го года я писал, что фабулизм восходит своими корнями к идеям С. Л. Франка, высказанным им в работе "Религия и наука" (Франк, 1967). Однако, выражение главной идеи фабулизма можно увидеть уже в произведениях Оригена: «…Я думаю, никто не сомневается, что этот рассказ <речь идёт о нарративе Быт. III, 8 - СМ> образно указывает на некоторые тайны через историю только мнимую, но не происходившую телесным образом» (Ориген, 1993, стр. 274). От Оригена берёт своё начало "александрийская" традиция аллегорического толкования Священного Писания, но её рецепция Церковью в последующие века долго не доходила до тех крайних форм, которые присущи фабулизму, уравновешиваясь традицией так называемого "буквального" толкования: аллегорический смысл событий, описываемых в Библии, не исключал, а наоборот, подразумевал то, что сами эти события действительно происходили в истории. И лишь в XX в. аллегорическая традиция породила столь экстремистское направление в герменевтике, как фабулизм, ныне всё шире захватывающее христианское сознание.
Я долго думал, почему все католики [Э. Гальбиати и А. Пьяцца (1992), Г. Кюнг (2007), К. Каннингэм и др.] – такие фабулисты. Что такого специфического содержится в фабулизме с одной стороны и в католическом мировоззрении с другой, из-за чего эти две идеологии оказываются так плотно «склеенными» друг с другом (во всяком случае, в публичном пространстве)? Но недавно у того же Каннингэма я прочитал, что ещё в 1981 г. тогдашний папа римский Иоанн Павел II обратился к Папской Академии Наук с посланием «Космология и фундаментальная физика», в котором, в частности, говорится: “The Bible itself speaks to us of the origin of the universe and its makeup, not in order to provide us with a scientific treatise, but in order to state the correct relationship of man with God and with the universe. Sacred Scripture wishes simply to declare that the world was created by God, and in order to teach this truth it expresses itself in the terms of the cosmology in use at the time of the writer. The Sacred Book likewise wishes to tell men that the world was not created as the seat of the gods, as was taught by other cosmogonies and cosmologies, but was rather created for the service of man and the glory of God. Any other teaching about the origin and make-up of the universe is alien to the intentions of the Bible, which does not wish to teach how heaven was made but how one goes to heaven” (Cunningham, 2010, p. 296). Очевидно, что это типично фабулистский взгляд на Библию. А принцип “Roma locuta, causa finita” до сих пор является основополагающим для католического богословия. Поэтому естественно, что после такого высказывания папы все дисциплинированные (и даже недисциплинированные, вроде Кюнга) католики сразу сделали «под козырёк» и стали проповедывать фабулизм.
Гальбиати Э., Пьяцца А. Трудные страницы Библии (Ветхий Завет) (перев. с итал.). Милан – М.: Христианская Россия, 1992, 303 стр.
Гоманьков А. В. Как описать историю мира? Теория эволюции, креационизм и христианское вероучение // Журнал Московской Патриархии, 2010, № 9, стр. 82 – 89.
Кюнг Г. Начало всех вещей. Естествознание и религия (перев. с нем.). М.: ББИ, 2007, 250 стр.
Макгрю Т., Макгрю Л. Аргумент от чудес: кумулятивное доказательство воскресения Иисуса из Назарета (перев. с англ.) // Крейг У., Морленд Д. (ред.) / Новое естественное богословие. М.: ББИ, 2014, стр. 700 – 784.
Ориген. О началах (перев. с лат. и гр.). Самара: РА, 1993, 318 стр.
Франк С. Л. Религия и наука. 2-е изд. Франкфурт-на Майне: Посев, 1967, 47 стр.
Cunningham C. Darwin’s pious idea: why the ultra-darwinists and creationists both get it wrong. Grand Rapids – Cambridge: William B. Eerdmans Publishing Co., 2010, 543 pp.

Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Воскресение Христово было реальностью, историческим фактом в самом «предельном» смысле этого слова, какой только может вообразить себе человек. И на это указывает эпизод с апостолом Фомой. Фома потребовал самого предельного удостоверения – «потрогать руками», и это требование было удовлетворено. Удовлетворено, думается, для того, чтобы никто не считал Евангелие иносказанием. Какой смысл рассказывать басню о том, что она сама не есть басня? Итак, воскресение Христа есть факт в любом представимом смысле. В него можно верить или не верить, но нельзя «верить в каком-то смысле» (а в каком-то другом, соответственно, не верить). [Совершенно нелепыми и бессмысленными представляются попытки «доказать» факт Воскресения на основании «показаний» жён-мироносиц (Макгрю Т., Макгрю Л., 2014). В Евангелии прямо повествуется о явлении воскресшего Спасителя ученикам, на таком же уровне достоверности, как и о рассказах жён-мироносиц (которым, кстати, и сами апостолы не поверили, пока Христос не явился им воочию - Мк. XVI, 9 - 14; Лук. XXIV, 9 - 11). Если мы не верим этим прямым показаниям евангелистов, то почему мы должны верить в то, что жёны-мироносицы вообще существовали и что бы то ни было рассказывали?].
Можно ли этот «анти-фабулистский» [о термине «фабулизм» см. (Гоманьков, 2010), а также на настоящем сайте megatherium.diary.ru/p127390412.htm] подход распространить на I главу книги Бытия? К. Каннингэм даёт категорически отрицательный ответ на этот вопрос : "...As Barr says, 'It is easy to see how Paul, wishing to make clear the completeness and finality of Christ’s victory over sin, looked to the story of Adam and found in it the typology that he needed' <речь идёт о толковании Рим. V, 12 -21 - СМ>. This is of course true, but in doing this Paul was not making a mistake, because Christ’s passion should indeed cause us to look at the Scriptures precisely in this way. But after doing so we can’t then prioritize that which is found only because of Christ. We can’t make Adam first, or in a very particular sense real. To quote Barr again, 'Paul was not interpreting the story in and for itself; he was really interpreting Christ through the use of images from the story'. This is certainly correct, but there is something left unsaid, namely, that there is no story in itself. For if we presume there to be such a thing — if we presume the Scriptures can exist or be read except through Christ — then we fall on folly, for there is no history without Christ" (Cunningham, 2010, p. 397).
Думается, однако, что Каннингэм "в сем случае совсем не прав". I глава Бытия читается в качестве паримии на вечерне в 1-ую неделю поста, а затем ещё в Великую Субботу, чем действительно подчёркивается смысловая связь этого текста с фактом Воскресения. Конечно, паримия – это лишь пророчество о реальности, которой только ещё предстоит быть, но в данном случае паримию можно также с полным правом назвать прообразованием, когда не слово, не рассказ о каких-то событиях, но сами эти события выступают в качестве формы знаков, смысл которых – некоторая грядущая реальность. Соответственно, сами эти события должны рассматриваться как историческая реальность; они обладают таким же онтологическим статусом, как, скажем, те буквы, которыми написан текст Священного Писания.
Когда я беру в руки свои «ископаемые» (остатки организмов, населявших Землю в далёком прошлом), я получаю такое же удостоверение в отношении к свидетельству Бытописателя, как получил апостол Фома в отношении к словам других учеников «Мы видели Господа» (Иоанн, XX, 25).
Раковины брахиопод Aulosteges gigas из пермских отложений Кировской области

В упомянутой статье 2010-го года я писал, что фабулизм восходит своими корнями к идеям С. Л. Франка, высказанным им в работе "Религия и наука" (Франк, 1967). Однако, выражение главной идеи фабулизма можно увидеть уже в произведениях Оригена: «…Я думаю, никто не сомневается, что этот рассказ <речь идёт о нарративе Быт. III, 8 - СМ> образно указывает на некоторые тайны через историю только мнимую, но не происходившую телесным образом» (Ориген, 1993, стр. 274). От Оригена берёт своё начало "александрийская" традиция аллегорического толкования Священного Писания, но её рецепция Церковью в последующие века долго не доходила до тех крайних форм, которые присущи фабулизму, уравновешиваясь традицией так называемого "буквального" толкования: аллегорический смысл событий, описываемых в Библии, не исключал, а наоборот, подразумевал то, что сами эти события действительно происходили в истории. И лишь в XX в. аллегорическая традиция породила столь экстремистское направление в герменевтике, как фабулизм, ныне всё шире захватывающее христианское сознание.
Я долго думал, почему все католики [Э. Гальбиати и А. Пьяцца (1992), Г. Кюнг (2007), К. Каннингэм и др.] – такие фабулисты. Что такого специфического содержится в фабулизме с одной стороны и в католическом мировоззрении с другой, из-за чего эти две идеологии оказываются так плотно «склеенными» друг с другом (во всяком случае, в публичном пространстве)? Но недавно у того же Каннингэма я прочитал, что ещё в 1981 г. тогдашний папа римский Иоанн Павел II обратился к Папской Академии Наук с посланием «Космология и фундаментальная физика», в котором, в частности, говорится: “The Bible itself speaks to us of the origin of the universe and its makeup, not in order to provide us with a scientific treatise, but in order to state the correct relationship of man with God and with the universe. Sacred Scripture wishes simply to declare that the world was created by God, and in order to teach this truth it expresses itself in the terms of the cosmology in use at the time of the writer. The Sacred Book likewise wishes to tell men that the world was not created as the seat of the gods, as was taught by other cosmogonies and cosmologies, but was rather created for the service of man and the glory of God. Any other teaching about the origin and make-up of the universe is alien to the intentions of the Bible, which does not wish to teach how heaven was made but how one goes to heaven” (Cunningham, 2010, p. 296). Очевидно, что это типично фабулистский взгляд на Библию. А принцип “Roma locuta, causa finita” до сих пор является основополагающим для католического богословия. Поэтому естественно, что после такого высказывания папы все дисциплинированные (и даже недисциплинированные, вроде Кюнга) католики сразу сделали «под козырёк» и стали проповедывать фабулизм.
Литература
Гальбиати Э., Пьяцца А. Трудные страницы Библии (Ветхий Завет) (перев. с итал.). Милан – М.: Христианская Россия, 1992, 303 стр.
Гоманьков А. В. Как описать историю мира? Теория эволюции, креационизм и христианское вероучение // Журнал Московской Патриархии, 2010, № 9, стр. 82 – 89.
Кюнг Г. Начало всех вещей. Естествознание и религия (перев. с нем.). М.: ББИ, 2007, 250 стр.
Макгрю Т., Макгрю Л. Аргумент от чудес: кумулятивное доказательство воскресения Иисуса из Назарета (перев. с англ.) // Крейг У., Морленд Д. (ред.) / Новое естественное богословие. М.: ББИ, 2014, стр. 700 – 784.
Ориген. О началах (перев. с лат. и гр.). Самара: РА, 1993, 318 стр.
Франк С. Л. Религия и наука. 2-е изд. Франкфурт-на Майне: Посев, 1967, 47 стр.
Cunningham C. Darwin’s pious idea: why the ultra-darwinists and creationists both get it wrong. Grand Rapids – Cambridge: William B. Eerdmans Publishing Co., 2010, 543 pp.
вторник, 02 февраля 2016
В 2011 г. Г. Л. Муравник под эгидой московского прихода свв. Косьмы и Дамиана затеяла издать сборник статей антикреационистской направленности и предложила мне принять в нём участие. Я согласился и послал ей большую статью «Библия и природа (герменевтический опыт)». Статья была одобрена и принята для публикации в сборнике, но в 2012 г., когда сборник пребывал ещё в процессе редактирования, С. Ю. Вертьянов выпустил 3-е издание своего "учебника" "Общая биология". В связи с этим Галина Леонидовна обратилась ко мне со специальной просьбой написать ещё отдельную рецензию на указанное произведение Вертьянова, что я и исполнил. Сборник, куда вошли обе мои статьи, был полностью подготовлен к печати (включая даже обложку), однако прошло уже 5 лет, а он по-прежнему не издан и, насколько я понимаю, надежд на его издание нет уже никаких. Работу «Библия и природа» я за это время опубликовал в сборнике своих статей, выпущенном издательством «ГЕОС» в 2014 г. (см. paleobot.ru/pdf/Gomankov2014.pdf, а также на настоящем сайте записи от 28/IV-2012, 2/V-2012, 3/V-2012, 5/V-2012 и 6/V-2012), а рецензия на Вертьянова так и осталась неопубликованной. Чтобы она совсем не пропала, помещаю её здесь и теперь.
Редактор настоящего сборника Г. Л. Муравник попросила меня ознакомиться с новым (3-им) дополненным изданием учебника по общей биологии для 10 – 11 классов средней школы, написанным С. Ю. Вертьяновым (2012), и высказать о нём своё мнение. Не чувствуя себя компетентным специалистом в таких областях биологии как цитология, эмбриология, генетика и экология, я счёл для себя возможным внимательно изучить и прокомментировать лишь тот раздел учебника, который имеет прямое отношение к моей непосредственной профессиональной деятельности, а именно раздел IV «Происхождение жизни» (сам я в 1975 году окончил кафедру палеонтологии геологического факультета МГУ и после этого занимаюсь палеоботаникой – до 2003 г. работал в лаборатории палеофлористики Геологического института РАН в Москве, а с тех пор и по настоящее время работаю в лаборатории палеоботаники Ботанического института РАН в Санкт-Петербурге). Прежде мне доводилось читать книгу Вертьянова «Происхождение жизни: факты, гипотезы, доказательства» (Вертьянов, 2003; эта книга рекомендуется автором в качестве дополнительного материала к ряду глав рецензируемого учебника) и даже довольно подробно комментировать её (Гоманьков, 2008; www.diary.ru/~Megatherium/, запись от 6/X-2008; у тех, кто знаком с этой моей работой, я прошу прощения за повторение некоторых её фрагментов в настоящей рецензии). Поэтому в какой-то степени я был готов к «встрече» с тем, что написано в учебнике Вертьянова. Но даже не смотря на это, содержание IV раздела данного учебника повергло меня в ужас.
Школьные учебники пишутся, очевидно, для того, чтобы школьники по ним учились, т. е. изучали и усваивали изложенный в них материал. В силу этого никакие ошибки не могут считаться допустимыми и простительными в школьных учебниках, ибо всякая такая ошибка будет «растиражирована» в головах учеников и приведёт к широкому распространению заведомо ложных сведений об окружающем нас мире. Слава Богу, на учебнике Вертьянова не стоит гриф, что он «допущен» или «рекомендуется» отвечающими за это государственными (и даже церковными) структурами в качестве учебника по биологии для общеобразовательных школ. Тем не менее, и сам автор, и издательство, выпустившее учебник, очевидно, предполагали, что он будет использоваться именно в таком качестве (иначе зачем было бы его издавать?). А между тем он буквально переполнен ошибками – как фактическими, так и логическими. Я попытался выписать все ошибки, замеченные мною в IV разделе, и «исправить» каждую из них, т. е. объяснить, как в данном конкретном случае действительно обстоит дело. В результате получился текст объемом 16 страниц. Воспроизводить его здесь целиком, очевидно, не имеет смысла, поэтому я остановлюсь, в основном, на самых «вопиющих» погрешностях автора.
Тяжёлое впечатление производит первый же параграф раздела IV (§ 38. Многообразие органического мира. Классификация организмов). Выше уже говорилось, что в учебнике недопустимы любые ошибки, однако то обстоятельство, что название одного из царств прокариот перепутано с названием докембрийского акрона (стр. 165), или две орфографические ошибки в одном латинском названии байбака (стр. 168) могут показаться простительными «мелочами» по сравнению с таким, например, утверждением [1]:
В царство растений входят 7 отделов: многоклеточные водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные и покрытосеменные растения (стр. 167).
На самом деле разные многоклеточные водоросли (красные, бурые, зелёные, харовые) выделяются обычно в разные отделы (а красные часто рассматриваются даже как самостоятельное подцарство). Кроме того, никак не упоминаются проптеридофиты и прогимноспермы, что, впрочем, и понятно: ведь они являются промежуточными формами между разными отделами высших растений, а таких промежуточных форм, согласно Вертьянову, не существует (см. ниже).
Но и это ещё «цветочки» (не только в прямом, но и в переносном смысле), а подлинный «шедевр» ожидает читателя 15 строчками ниже:
Подцарство многоклеточных беспозвоночных включает 6 типов: кишечнополостные; плоские, круглые и кольчатые черви; моллюски и членистоногие (стр. 167).
И запомните, дети, это число – 6! Потому что гипотезу иглокожих придумали в XIX в. атеисты, для того чтобы доказать отсутствие Бога. А святые отцы нигде в своих творениях про иглокожих не упоминают, и следовательно, никаких иглокожих (равно как брахиопод, мшанок и прочих погонофор с археоциатами) в природе нет!
Так же неполно на стр. 167 перечисляются классы членистоногих и рыб…
Впрочем, при дальнейшем чтении учебника выясняется, что и это ещё не предел невежества автора. В аннотации к учебнику говорится, что в нём рассмотрены оба существующих в современной науке варианта происхождения жизни: в процессе эволюции и в результате сотворения. Отсюда можно предположить, что автор придерживается той системы взглядов на историю нашего мира, которая получила название «научного» креационизма (Гоманьков, 2010), ибо на самом деле процесс эволюции нельзя противопоставлять сотворению (см. мою статью «Библия и природа» в настоящем сборнике) и, следовательно, если сотворение рассматривается как отдельный (по сравнению с эволюцией) «вариант происхождения жизни», то такое рассмотрение существует не «в современной науке», а за её пределами. Чтение IV раздела, который носит название «Происхождение жизни» (кстати, о происхождении жизни в собственном смысле речь идёт лишь в одной из глав этого раздела – главе 12 «Возникновение жизни на Земле», а остальной материал относится не столько к происхождению жизни, сколько к её истории после происхождения), вполне подтверждает это первоначальное предположение. Можно сказать, что весь пафос данного раздела (если не всего учебника) направлен на опровержение гипотезы эволюции (стр. 165). Соответственно, основная его ошибочность (как в количественном, так и в качественном отношении) выявляется в тех параграфах, которые непосредственно касаются темы эволюции живых организмов. Однако для раскрытия этих ошибок необходимо хотя бы вкратце остановиться на статусе той концепции, которую Вертьянов называет гипотезой эволюции, в общей системе современного биологического знания.
Прежде всего, как указывал С. В. Мейен (1989, стр. 89; Вертьянов заведомо читал эту книгу и неоднократно её цитирует по другим поводам), «говоря об эволюционном учении, следует ясно различать (1) твёрдо установленный факт эволюции организмов в геологическом прошлом, (2) гипотезы о конкретных путях эволюционного процесса и (3) ещё более гипотетичные представления о факторах и механизмах эволюции». Таким образом, сама по себе эволюция (т. е. постепенное и необратимое изменение органического мира Земли) есть доказанный факт. Из всех многочисленных доказательств этого факта «главным» и наиболее убедительным мне (вероятно, в силу моей профессиональной подготовки и деятельности) представляется то, которое можно назвать «палеонтологическим» и сформулировать следующим образом.
Верхняя часть земной коры (стратисфера) сложена слоистыми осадочными горными породами, образовавшимися большей частью в результате осаждения минеральных частиц на дно тех или иных водоёмов. Как правило, вышележащие слои моложе (образовались позднее), чем те, которые их подстилают (из этого правила бывают исключения, но они сравнительно редки и их всегда можно распознать с помощью специально разработанных методов – см., например, Шрок, 1950). Так вот, во многих местах стратисферы имеются (иногда очень длинные) последовательности слоёв, в которых от слоя к слою наблюдается изменение содержащихся в них остатков живых организмов. Этот факт (точнее, множество фактов), на мой взгляд, однозначно свидетельствует о том, что животный и растительный мир Земли за время её существования не оставался неизменным, а постепенно и необратимо изменялся, т. е. эволюционировал.
Кроме того, представления об эволюции (не только органического мира Земли, но и всей Вселенной в целом) настолько «прочно» вошли в общую научную картину мира, что их отрицание требует пересмотра всей этой картины, т. е., выражаясь языком современной философии науки, построения новой научной парадигмы.
Что же предлагает Вертьянов в качестве такой новой парадигмы? Нельзя сказать, что он игнорирует те «показания» палеонтологической летописи, о которых говорилось выше, но он пытается интерпретировать их как следы одной общепланетарной катастрофы – Всемирного потопа, под которым понимается не просто наводнение, а гораздо более многогранное и великомасштабное геологическое явление, включающее перестройку земной коры с формированием месторождений угля и нефти и изменение планетарного климата, а с ним — всего животного и растительного мира (стр. 194). Такая «парадигма» никак не может считаться «новой». Интерпретация всей стратисферы (или, по крайней мере, большей ее части) как отложений Всемирного потопа господствовала в геологии ещё в XVIII в. (см., например, Игнатьев, 2009, 2012). При этом все организмы, остатки которых встречались в ископаемом состоянии, но которые не известны в настоящее время, считались погибшими во время потопа и назывались «допотопными». Однако в дальнейшем в результате изучения стратисферы была выявлена её «стратифицированность», т. е. расчленённость на слои, каждый из которых содержал свой уникальный комплекс ископаемых организмов (см., например, Уильямсон, 2020). Этот феномен никак не укладывался в «потопную теорию», и для его объяснения учёным пришлось допустить, что в прошлом произошёл не один Всемирный потоп, а несколько и после каждого из них (кроме последнего) Бог создавал органический мир Земли заново. «Отец палеонтологии» Ж. Кювье (1769 – 1832) допускал 3 таких акта творения, но уже его ближайший последователь А. д’Орбиньи (1802 – 1857) был вынужден признавать 27 таких актов, а Л. Агассиц (1807 – 1873) – 80. Кроме того, стало выясняться, что наблюдаемые этапы не абсолютно обособлены друг от друга, а демонстрируют некоторую преемственность в составе органических остатков. Всё это привело «потопную теорию» (называемую также теорией катастроф или катастрофизмом) к окончательному крушению. Стало понятно, что история Земли состоит из многочисленных относительно «спокойных» периодов, разделённых относительно же резкими перестройками, различными по своей значимости и пространственному распространению, да к тому же происходящими не одновременно в разных частях земного шара. Эти общие представления по сей день господствуют в исторической геологии, а «новая парадигма» Вертьянова пытается вернуть школьников к представлениям XVIII в., которые были опровергнуты логикой развития самой же науки. Соответственно, при изложении Вертьяновым его «парадигмы» (и отрицании обычной, эволюционной) бросается в глаза огромное количество грубейших погрешностей против данных современной палеонтологии и стратиграфии. В § 48 («Геохронологическая шкала») ошибочной является чуть ли не каждая фраза, поэтому по крайней мере начало этого параграфа придётся процитировать и прокомментировать почти целиком.
Изучение земной коры показало, что более сложные формы чаще всего действительно находят в верхних слоях. Но эта закономерность не столь очевидная; достаточно часто в слоях находят окаменелости выше и ниже «своей эры», в одном слое может встречаться флора и фауна разных периодов (стр. 221).
На самом деле закономерность-то как раз очевидна. Неочевидны исключения из нее. Во-первых, они встречаются не «достаточно часто», а очень редко, что и позволяет рассматривать их как исключения, которые отнюдь не отменяют общего правила. А во-вторых, они фактически всегда объяснимы в рамках существующей парадигмы: окаменелости, которые находят выше или ниже «своей эры» свидетельствуют лишь о том, что прежде у нас были неверные представления о «своей эре» данной окаменелости, а вовсе не о том, что такой «своей эры» вообще не существует; разновозрастные остатки, встреченные в одном слое, суть результат переотложения, следы которого всегда удаётся обнаружить в характере залегания соответствующих остатков и форме их сохранности.
Дело осложняется тем, что полные разрезы крайне редки. Хорошо, если обнаруживается 4—5 периодов, как в Большом Каньоне (р. Колорадо), а таких случаев, чтобы разрез содержал все 12 периодов, вообще нет (стр. 221).
В хорошо всем известном Подмосковье разрез содержит отложения 6 периодов, в Ярославской области – 9, а все 12 периодов фанерозоя присутствуют, например, в Прикаспийской впадине. Другое дело, что бóльшая часть этих отложений не обнажена на поверхности, а известна благодаря пробуренным скважинам, но этот факт легко объясняется тем, что отложения каждого периода обладают очень большой мощностью. Поэтому для того, чтобы в одном обнажении можно было увидеть отложения нескольких периодов, нужно, чтобы это обнажение имело огромные размеры, т. е. чтобы земная кора была природными водными потоками размыта на очень большую глубину. Большой Каньон уникален не по количеству представленных в нём периодов, а по глубине размыва, так что в нём можно видеть 5 периодов в естественном обнажении.
Далеко не во всех пластах удаётся обнаружить окаменелости, чтобы приурочить пласт к конкретному периоду; часто старшинство слоёв определяется очерёдностью их залегания — стратиграфически (<лат. stratum слой )(стр. 221).
Старшинство слоёв определяется очерёдностью их залегания всегда. С помощью окаменелостей (а также других стратиграфических методов) осуществляется датировка слоёв, т. е. привязка их к некоей абстрактной шкале, которая строится путём корреляции разных разрезов друг с другом. Обязательное условие такой датировки – чтобы она не противоречила «очерёдности залегания» слоёв в данном конкретном разрезе.
Так, породы девонской системы впервые были выделены в графстве Девоншир (учителем Дарвина Сэджвиком, 1839 г.), а пермской — в Пермской губернии (Мурчисоном, 1841 г.). Возрастное соотношение между этими породами учёные определили по останкам. В девонширских отложениях широко распространены рыбы, а в пермских — пресмыкающиеся. Согласно эволюционным представлениям, пермские отложения моложе, поэтому должны располагаться на шкале выше девонских. Эволюционная гипотеза выделяет на развитие рыб в пресмыкающихся 100—120 млн. лет, и это значение берётся за разницу в возрасте пермских и девонских отложений. Так геохронологическая шкала оказалась привязанной к миллиардам лет гипотетической эволюции (стр. 222).
Пермская система по времени своего установления была последней из всех систем фанерозоя, так что с её выделением построение международной стратиграфической шкалы фанерозоя было фактически завершено, по крайней мере, на уровне систем (если не считать выделения ордовикской системы из состава силурийской, произведённого уже в середине XX в.). Таким образом, эта шкала была полностью построена почти за 20 лет до появления книги Ч. Дарвина «Происхождение видов» (первое издание которой увидело свет в 1859 г.), т. е. в те времена, когда идеи о биологической эволюции не были широко распространены в среде естествоиспытателей. Скорее всего, эти идеи не разделялись создателями шкалы и Р. И. Мурчисоном в том числе (интересно, кстати, заметить, что «учитель Дарвина» А. Сэджвик был англиканским священником и до конца своих дней не принимал и яростно критиковал дарвинизм). К тому же Мурчисон ничего не знал о присутствии остатков пресмыкающихся в выделенной им пермской системе (широкую известность эти остатки получили лишь после раскопок В. П. Амалицкого, начатых в 1898 г.). Отсюда можно понять, что возрастное соотношение между девонскими и пермскими отложениями было установлено не «по останкам», а по залеганию этих отложений друг на друге. Мурчисон «поместил» свою пермскую систему над девонской потому, что видел, как она налегает на отложения каменноугольной системы, про которую было известно, что в Западной Европе (в том числе и в Англии) она, в свою очередь, налегает на девонскую систему (Леонов, 1973). Потом, когда на территории бывшей Пермской губернии стали бурить скважины, это положение пермской системы, установленное Мурчисоном, получило подтверждение: на большой глубине под пермскими отложениями были вскрыты отложения, весьма сходные (по органическим остаткам, но опять же, не по рыбам, а по другим группам – главным образом, по спорам высших растений) с девоном графства Девоншир. Абсолютный же возраст (в годах) всех этих отложений как при Мурчисоне, так и долгое время после него был никому не известен. Его начали определять лишь в XX в. после открытия радиоактивности. И только тогда выяснилось, что «хронологическое расстояние» между девоном и пермью составляет около 60 (а вовсе не 100 – 120!) млн. лет. К происхождению же пресмыкающихся эти датировки вообще никакого отношения не имеют, т. к. первые пресмыкающиеся появляются не в пермском периоде, а в начале каменноугольного. Таким образом, на происхождение пресмыкающихся от рыб ушло, опять же, не 100 – 120, а всего лишь около 30 млн. лет и цифра эта получена совсем не из того, что столько лет «выделяет» на происхождение пресмыкающихся «эволюционная гипотеза», а из независимого от эволюции организмов метода – абсолютной датировки, основанной на радиоактивном распаде элементов.
Приведём для наглядности упрощенный пример. Предположим, после сильных дождей с гор сошёл сель, и морской залив оказался погребённым вместе с его обитателями. Через неведомое количество времени на этом месте вырос лес, и в нём поселились звери. Очередная катастрофа погребла и их. Указывают ли два таких пласта на эволюционное развитие жизни в течение миллионов лет? Конечно, нет (стр. 223).
Этот «упрощенный пример» представляет собой очевидную логическую подтасовку: автор задаёт вопрос и сам же даёт на него неверный ответ в надежде, что читатель не возьмёт на себя труд самостоятельно подумать над вопросом, а удовлетворится готовым ответом, который подсовывает ему автор. Правильный ответ на поставленный вопрос зависит от того, какова продолжительность того «неведомого количества времени», которое разделяет образование нижнего и верхнего слоёв. Если, например, морской залив существовал до появления млекопитающих, то в отложениях селя, которые погребли всех его обитателей, не могут встречаться морские млекопитающие (дельфины, тюлени и пр.), подобные зверям (т. е. млекопитающим), населявшим лес. Этот факт (отсутствие млекопитающих в нижем слое и присутствие их в верхнем) определённо указывает на эволюционное развитие жизни в течение тех миллионов лет, которые отделяют нижний слой от верхнего. Кроме того, в морской залив с берега вполне могли заноситься споры и пыльца высших растений. В этом случае на эволюционное развитие растительности будут так же определённо указывать различия в составе спорово-пыльцевых спектров, выделенных из рассматриваемых слоёв.
Учёные-креационисты со времён Кювье рассуждают следующим образом. Если на современной Земле живые организмы покрыть осадками, что мы увидим в недрах? Моллюски, кишечнополостные, рачки окажутся внизу, поскольку живут на дне морей. Выше расположатся рыбы, затем земноводные и пресмыкающиеся: они живут в прибрежных экологических зонах. В самых верхних слоях окажутся млекопитающие и птицы (стр. 223).
Ещё одна логическая подтасовка. Если на современной Земле все живые организмы одновременно покрыть осадками, то в нижнем слое вместе окажутся все организмы, живущие на твёрдом субстрате: донные моллюски, кишечнополостные, ракообразные, земноводные, пресмыкающиеся и млекопитающие, в более высоких слоях никаких организмов не окажется вообще, а рыбы вместе с другими организмами, живущими в толще воды, и птицы, летающие в воздухе, не попадут ни в какие слои. Очевидно, что ничего общего с последовательностью органических остатков, которую демонстрирует палеонтологическая летопись, эта гипотетическая последовательность слоёв иметь не будет. Если же разные области земной поверхности с разными экологическими условиями будут покрываться осадками в разное время, то, очевидно, последовательность захоронённых организмов будет отражать эту временнýю последовательность образования слоев. «Потопная модель» формирования стратисферы предполагает, что в силу постоянного подъёма уровня мирового океана осадконакопление постепенно смещалось из первоначальных областей морского мелководья сначала в прибрежные низменности, а затем в области, всё более возвышенные над уровнем моря. При этом нигде не может наблюдаться последовательность из более чем двух слоёв с разнохарактерной фауной и слои с морской фауной никогда не могут залегать выше, чем слои с фауной сухопутной. Но оба эти требования сплошь и рядом нарушаются в реально наблюдаемых разрезах, чем доказывается неадекватность «потопной модели». На севере Костромской области, например, можно наблюдать, как по мере углубления в стратисферу морские отложения юрского периода сменяются континентальными отложениями триаса и татарского яруса верхней перми, затем идут снова морские отложения казанского яруса, затем – континентальные уфимского и наконец – опять морские нижней перми и карбона. Кювье и его последователи здесь «притянуты за уши», поскольку они (в отличие от Вертьянова) более или менее адекватно представляли себе, как выглядит палеонтологическая летопись, и объясняли её множеством катастроф, после каждой из которых органический мир Земли возникал заново в другом виде (т. е. был представлен другими организмами, хотя и обитавшими в тех же экологических обстановках).
Целых два параграфа (§§ 49 и 50) IV раздела посвящены изложению и «обоснованию» известного креационистского мифа об отсутствии переходных форм между таксонами живых организмов. На самом деле проблема переходных форм была поставлена ещё Дарвином: ей посвящена специальная глава «Происхождения видов» (10-я в 6-ом Лондонском издании). Чёткость разграничения современных таксонов, согласно Дарвину, обусловлена вымиранием форм, которые когда-то связывали эти таксоны друг с другом в силу их общего происхождения. Отсюда следует, что переходные формы должны в изобилии встречаться в ископаемом состоянии. Обсуждая вопрос о том, почему этого не происходит, Дарвин в качестве одной из причин указывал на сравнительную «молодость» палеонтологии как науки. Действительно, датой рождения научной палеонтологии считают обычно 1812 год, когда был опубликован труд Кювье «Исследование ископаемых костей четвероногих», т. е. к моменту 6-го издания «Происхождения видов» (1872 г.) палеонтологии было всего лишь 60 лет – возраст ничтожный по масштабам истории науки. Дарвин, по-видимому, прекрасно понимая это, высказал предположение, что с дальнейшим развитием палеонтологии количество известных переходных форм значительно возрастёт. Это предсказание Дарвина блестяще подтвердилось в последующие полтора века (такие оправдавшиеся предсказания всегда рассматриваются в науке как доказательства истинности соответствующей теории). Между большинством крупных таксонов сейчас известны целые «облака» переходных форм; палеонтологи буквально не знают, куда от них деваться, и реальная проблема заключается не в том, чтобы найти такие формы, а в том, чтобы найти в этих «облаках» траектории, по которым действительно прошла эволюция при переходе от одного таксона к другому.
И к каким только фактологическим и логическим передержкам не прибегает Вертьянов, чтобы «опровергнуть» этот очевидный эмпирический факт! Здесь так же, как в § 48, чуть ли не каждая фраза может считаться ошибочной, и я ограничусь лишь немногими примерами.
Не подтверждена палеонтологическими фактами и гипотеза о происхождении млекопитающих от пресмыкающихся. Современной науке прямые предки млекопитающих животных неизвестны, появление первого млекопитающего остаётся загадкой для учёных (стр. 232).
Зверозубый ящер, предлагаемый в качестве переходного звена от пресмыкающихся к млекопитающим, — пресмыкающееся, у него лишь pазного pазмеpа и назначения зубы, подобно тому как это бывает у млекопитающих (стр. 235).
На самом деле териодонты («зверозубые») – это большая и весьма разнообразная группа рептилий, так что упоминание «зверозубого ящера» в единственном числе есть свидетельство глубокого невежества Ветьянова. Помимо дифференциации зубной системы разных териодонтов роднит с млекопитающими наличие шерсти и вибрисс («усов» на верхней челюсти), верхние обонятельные раковины, расширенные большие полушария головного мозга и много других признаков. В классической работе академика Л. П. Татаринова (1976) детально прослежен процесс эволюции от ранних териодонтов к млекопитающим, причём показано, что он так же проходил через «облако» переходных форм.
Археоптерикс обладал практически всеми признаками птицы (стр. 234).
Тремя строчками ниже сам же Вертьянов вынужден признать, что археоптерикс «имел необычные для современных птиц зубы и хвост с позвонками». Этим утверждением, очевидно, перечеркиваются все предшествующие рассуждения Вертьянова об археоптериксе как о «настоящей» птице, которая не может рассматриваться в качестве переходной формы между птицами и пресмыкающимися.
Подобным образом ошибками изобилуют разделы «Радиоизотопные методы датирования» и «Возраст планеты» параграфа 48 («Геохронологическая шкала»), а также глáвы 12 («Возникновение жизни на Земле») и 13 («Происхождение человека»). Здесь нет возможности разбирать все эти ошибки, да и необходимости такой тоже нет. Сказанного выше, видимо, вполне достаточно для того, чтобы сделать главный вывод: книга Вертьянова не может и не должна использоваться в качестве учебника по биологии для 10 – 11 классов общеобразовательных учреждений. К ней вполне приложимы слова, сказанные палеонтологом и педагогом К. Ю. Еськовым (2000) по поводу другого «учебника креационной науки», написанного священником Тимофеем (1998): «Применять с осторожностью, беречь от детей!».
«А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море» (Мк. IX, 42). Эти слова Спасителя предупреждают нас о колоссальной ответственности, лежащей на создателях школьных учебников. И относятся они не только к Вертьянову, но и ко всем тем, кто так или иначе способствовал изданию и популяризации его книги, – редакторам, корректорам и другим сотрудникам издательства, а также к рецензентам, чьи положительные отзывы приведены на обложке «учебника» (конечно, если таковые рецензенты существуют в действительности, а не придуманы его автором). Страх попасть в число таких «соблазнителей» был моим главным движущим мотивом при написании настоящей рецензии.
Вертьянов С. Ю. (под ред. Ю. П. Алтухова). Общая биология. Учебник для 10—11 классов общеобразовательных учреждений. 3-е издание, дополненное. М.: Изд-во Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2012, 352 c.
Вертьянов С. Происхождение жизни: факты, гипотезы, доказательства. 2-е издание. Изд-во Свято-Троицкой Сергиевой лавры, 2003, 128 с.
Гоманьков А. В. Битва в пути (креационизм и естествознание) // Христианство и наука. Сборник докладов конференции. М.: Изд-во РУДН, 2008, с. 113 – 145.
Гоманьков А. В. Как описать историю мира? Теория эволюции, креационизм и христианское вероучение // Журнал Московской Патриархии, 2010, № 9, с. 82 – 89.
Еськов К. Ю. «Применять с осторожностью, беречь от детей!» // Человек, 2000, № 1, с. 176 – 183.
Игнатьев И. А. Иоганн Якоб Шойхцер и его «Herbarium diluvianum» (1709) // Lethaea rossica. Российский палеоботанический журнал, 2009, т. 1, с. 1 – 14.
Игнатьев И. А. Ископаемые растения и «теория Потопа» // Lethaea rossica. Российский палеоботанический журнал, 2012, т. 7. с. 35 – 58.
Леонов Г. П. Основы стратиграфии. Т. 1. М.: Изд-во МГУ, 1973, 530 с.
Мейен С. В. Введение в теорию стратиграфии. М.: Наука, 1989, 215 с.
Священник Тимофей. Православное мировоззрение и современное естествознание. Уроки креационной науки в старших классах средней школы. М.: Паломник, 1998, 207 с.
Татаринов Л. П. Морфологическая эволюция териодонтов и общие вопросы филогенетики. М.: Наука, 1976, 258 с.
Шрок Р. Последовательность в свитах слоистых пород (перев. с англ.). М.: Изд-во иностранной литературы, 1950, 564 с.
Уильямсон У. К. Воспоминания йоркширского натуралиста (Продолжение( (перев. с англ.) //Lethaea rossica. Российский палеоботанический журнал, 2020, т. 21, с. 134 - 142.
[1] Здесь и далее прямые цитаты из учебника Вертьянова выделены курсивом; комментарии, относящиеся непосредственно к данной цитате, приводятся сразу после указания страницы, с которой взята цитата, и выделены подчёркиванием; полужирным шрифтом выделены смысловые акценты (как мои, так и Вертьянова).
О книге С. Ю. Вертьянова «Общая биология»
Редактор настоящего сборника Г. Л. Муравник попросила меня ознакомиться с новым (3-им) дополненным изданием учебника по общей биологии для 10 – 11 классов средней школы, написанным С. Ю. Вертьяновым (2012), и высказать о нём своё мнение. Не чувствуя себя компетентным специалистом в таких областях биологии как цитология, эмбриология, генетика и экология, я счёл для себя возможным внимательно изучить и прокомментировать лишь тот раздел учебника, который имеет прямое отношение к моей непосредственной профессиональной деятельности, а именно раздел IV «Происхождение жизни» (сам я в 1975 году окончил кафедру палеонтологии геологического факультета МГУ и после этого занимаюсь палеоботаникой – до 2003 г. работал в лаборатории палеофлористики Геологического института РАН в Москве, а с тех пор и по настоящее время работаю в лаборатории палеоботаники Ботанического института РАН в Санкт-Петербурге). Прежде мне доводилось читать книгу Вертьянова «Происхождение жизни: факты, гипотезы, доказательства» (Вертьянов, 2003; эта книга рекомендуется автором в качестве дополнительного материала к ряду глав рецензируемого учебника) и даже довольно подробно комментировать её (Гоманьков, 2008; www.diary.ru/~Megatherium/, запись от 6/X-2008; у тех, кто знаком с этой моей работой, я прошу прощения за повторение некоторых её фрагментов в настоящей рецензии). Поэтому в какой-то степени я был готов к «встрече» с тем, что написано в учебнике Вертьянова. Но даже не смотря на это, содержание IV раздела данного учебника повергло меня в ужас.
Школьные учебники пишутся, очевидно, для того, чтобы школьники по ним учились, т. е. изучали и усваивали изложенный в них материал. В силу этого никакие ошибки не могут считаться допустимыми и простительными в школьных учебниках, ибо всякая такая ошибка будет «растиражирована» в головах учеников и приведёт к широкому распространению заведомо ложных сведений об окружающем нас мире. Слава Богу, на учебнике Вертьянова не стоит гриф, что он «допущен» или «рекомендуется» отвечающими за это государственными (и даже церковными) структурами в качестве учебника по биологии для общеобразовательных школ. Тем не менее, и сам автор, и издательство, выпустившее учебник, очевидно, предполагали, что он будет использоваться именно в таком качестве (иначе зачем было бы его издавать?). А между тем он буквально переполнен ошибками – как фактическими, так и логическими. Я попытался выписать все ошибки, замеченные мною в IV разделе, и «исправить» каждую из них, т. е. объяснить, как в данном конкретном случае действительно обстоит дело. В результате получился текст объемом 16 страниц. Воспроизводить его здесь целиком, очевидно, не имеет смысла, поэтому я остановлюсь, в основном, на самых «вопиющих» погрешностях автора.
Тяжёлое впечатление производит первый же параграф раздела IV (§ 38. Многообразие органического мира. Классификация организмов). Выше уже говорилось, что в учебнике недопустимы любые ошибки, однако то обстоятельство, что название одного из царств прокариот перепутано с названием докембрийского акрона (стр. 165), или две орфографические ошибки в одном латинском названии байбака (стр. 168) могут показаться простительными «мелочами» по сравнению с таким, например, утверждением [1]:
В царство растений входят 7 отделов: многоклеточные водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные и покрытосеменные растения (стр. 167).
На самом деле разные многоклеточные водоросли (красные, бурые, зелёные, харовые) выделяются обычно в разные отделы (а красные часто рассматриваются даже как самостоятельное подцарство). Кроме того, никак не упоминаются проптеридофиты и прогимноспермы, что, впрочем, и понятно: ведь они являются промежуточными формами между разными отделами высших растений, а таких промежуточных форм, согласно Вертьянову, не существует (см. ниже).
Но и это ещё «цветочки» (не только в прямом, но и в переносном смысле), а подлинный «шедевр» ожидает читателя 15 строчками ниже:
Подцарство многоклеточных беспозвоночных включает 6 типов: кишечнополостные; плоские, круглые и кольчатые черви; моллюски и членистоногие (стр. 167).
И запомните, дети, это число – 6! Потому что гипотезу иглокожих придумали в XIX в. атеисты, для того чтобы доказать отсутствие Бога. А святые отцы нигде в своих творениях про иглокожих не упоминают, и следовательно, никаких иглокожих (равно как брахиопод, мшанок и прочих погонофор с археоциатами) в природе нет!
Так же неполно на стр. 167 перечисляются классы членистоногих и рыб…
Впрочем, при дальнейшем чтении учебника выясняется, что и это ещё не предел невежества автора. В аннотации к учебнику говорится, что в нём рассмотрены оба существующих в современной науке варианта происхождения жизни: в процессе эволюции и в результате сотворения. Отсюда можно предположить, что автор придерживается той системы взглядов на историю нашего мира, которая получила название «научного» креационизма (Гоманьков, 2010), ибо на самом деле процесс эволюции нельзя противопоставлять сотворению (см. мою статью «Библия и природа» в настоящем сборнике) и, следовательно, если сотворение рассматривается как отдельный (по сравнению с эволюцией) «вариант происхождения жизни», то такое рассмотрение существует не «в современной науке», а за её пределами. Чтение IV раздела, который носит название «Происхождение жизни» (кстати, о происхождении жизни в собственном смысле речь идёт лишь в одной из глав этого раздела – главе 12 «Возникновение жизни на Земле», а остальной материал относится не столько к происхождению жизни, сколько к её истории после происхождения), вполне подтверждает это первоначальное предположение. Можно сказать, что весь пафос данного раздела (если не всего учебника) направлен на опровержение гипотезы эволюции (стр. 165). Соответственно, основная его ошибочность (как в количественном, так и в качественном отношении) выявляется в тех параграфах, которые непосредственно касаются темы эволюции живых организмов. Однако для раскрытия этих ошибок необходимо хотя бы вкратце остановиться на статусе той концепции, которую Вертьянов называет гипотезой эволюции, в общей системе современного биологического знания.
Прежде всего, как указывал С. В. Мейен (1989, стр. 89; Вертьянов заведомо читал эту книгу и неоднократно её цитирует по другим поводам), «говоря об эволюционном учении, следует ясно различать (1) твёрдо установленный факт эволюции организмов в геологическом прошлом, (2) гипотезы о конкретных путях эволюционного процесса и (3) ещё более гипотетичные представления о факторах и механизмах эволюции». Таким образом, сама по себе эволюция (т. е. постепенное и необратимое изменение органического мира Земли) есть доказанный факт. Из всех многочисленных доказательств этого факта «главным» и наиболее убедительным мне (вероятно, в силу моей профессиональной подготовки и деятельности) представляется то, которое можно назвать «палеонтологическим» и сформулировать следующим образом.
Верхняя часть земной коры (стратисфера) сложена слоистыми осадочными горными породами, образовавшимися большей частью в результате осаждения минеральных частиц на дно тех или иных водоёмов. Как правило, вышележащие слои моложе (образовались позднее), чем те, которые их подстилают (из этого правила бывают исключения, но они сравнительно редки и их всегда можно распознать с помощью специально разработанных методов – см., например, Шрок, 1950). Так вот, во многих местах стратисферы имеются (иногда очень длинные) последовательности слоёв, в которых от слоя к слою наблюдается изменение содержащихся в них остатков живых организмов. Этот факт (точнее, множество фактов), на мой взгляд, однозначно свидетельствует о том, что животный и растительный мир Земли за время её существования не оставался неизменным, а постепенно и необратимо изменялся, т. е. эволюционировал.
Кроме того, представления об эволюции (не только органического мира Земли, но и всей Вселенной в целом) настолько «прочно» вошли в общую научную картину мира, что их отрицание требует пересмотра всей этой картины, т. е., выражаясь языком современной философии науки, построения новой научной парадигмы.
Что же предлагает Вертьянов в качестве такой новой парадигмы? Нельзя сказать, что он игнорирует те «показания» палеонтологической летописи, о которых говорилось выше, но он пытается интерпретировать их как следы одной общепланетарной катастрофы – Всемирного потопа, под которым понимается не просто наводнение, а гораздо более многогранное и великомасштабное геологическое явление, включающее перестройку земной коры с формированием месторождений угля и нефти и изменение планетарного климата, а с ним — всего животного и растительного мира (стр. 194). Такая «парадигма» никак не может считаться «новой». Интерпретация всей стратисферы (или, по крайней мере, большей ее части) как отложений Всемирного потопа господствовала в геологии ещё в XVIII в. (см., например, Игнатьев, 2009, 2012). При этом все организмы, остатки которых встречались в ископаемом состоянии, но которые не известны в настоящее время, считались погибшими во время потопа и назывались «допотопными». Однако в дальнейшем в результате изучения стратисферы была выявлена её «стратифицированность», т. е. расчленённость на слои, каждый из которых содержал свой уникальный комплекс ископаемых организмов (см., например, Уильямсон, 2020). Этот феномен никак не укладывался в «потопную теорию», и для его объяснения учёным пришлось допустить, что в прошлом произошёл не один Всемирный потоп, а несколько и после каждого из них (кроме последнего) Бог создавал органический мир Земли заново. «Отец палеонтологии» Ж. Кювье (1769 – 1832) допускал 3 таких акта творения, но уже его ближайший последователь А. д’Орбиньи (1802 – 1857) был вынужден признавать 27 таких актов, а Л. Агассиц (1807 – 1873) – 80. Кроме того, стало выясняться, что наблюдаемые этапы не абсолютно обособлены друг от друга, а демонстрируют некоторую преемственность в составе органических остатков. Всё это привело «потопную теорию» (называемую также теорией катастроф или катастрофизмом) к окончательному крушению. Стало понятно, что история Земли состоит из многочисленных относительно «спокойных» периодов, разделённых относительно же резкими перестройками, различными по своей значимости и пространственному распространению, да к тому же происходящими не одновременно в разных частях земного шара. Эти общие представления по сей день господствуют в исторической геологии, а «новая парадигма» Вертьянова пытается вернуть школьников к представлениям XVIII в., которые были опровергнуты логикой развития самой же науки. Соответственно, при изложении Вертьяновым его «парадигмы» (и отрицании обычной, эволюционной) бросается в глаза огромное количество грубейших погрешностей против данных современной палеонтологии и стратиграфии. В § 48 («Геохронологическая шкала») ошибочной является чуть ли не каждая фраза, поэтому по крайней мере начало этого параграфа придётся процитировать и прокомментировать почти целиком.
Изучение земной коры показало, что более сложные формы чаще всего действительно находят в верхних слоях. Но эта закономерность не столь очевидная; достаточно часто в слоях находят окаменелости выше и ниже «своей эры», в одном слое может встречаться флора и фауна разных периодов (стр. 221).
На самом деле закономерность-то как раз очевидна. Неочевидны исключения из нее. Во-первых, они встречаются не «достаточно часто», а очень редко, что и позволяет рассматривать их как исключения, которые отнюдь не отменяют общего правила. А во-вторых, они фактически всегда объяснимы в рамках существующей парадигмы: окаменелости, которые находят выше или ниже «своей эры» свидетельствуют лишь о том, что прежде у нас были неверные представления о «своей эре» данной окаменелости, а вовсе не о том, что такой «своей эры» вообще не существует; разновозрастные остатки, встреченные в одном слое, суть результат переотложения, следы которого всегда удаётся обнаружить в характере залегания соответствующих остатков и форме их сохранности.
Дело осложняется тем, что полные разрезы крайне редки. Хорошо, если обнаруживается 4—5 периодов, как в Большом Каньоне (р. Колорадо), а таких случаев, чтобы разрез содержал все 12 периодов, вообще нет (стр. 221).
В хорошо всем известном Подмосковье разрез содержит отложения 6 периодов, в Ярославской области – 9, а все 12 периодов фанерозоя присутствуют, например, в Прикаспийской впадине. Другое дело, что бóльшая часть этих отложений не обнажена на поверхности, а известна благодаря пробуренным скважинам, но этот факт легко объясняется тем, что отложения каждого периода обладают очень большой мощностью. Поэтому для того, чтобы в одном обнажении можно было увидеть отложения нескольких периодов, нужно, чтобы это обнажение имело огромные размеры, т. е. чтобы земная кора была природными водными потоками размыта на очень большую глубину. Большой Каньон уникален не по количеству представленных в нём периодов, а по глубине размыва, так что в нём можно видеть 5 периодов в естественном обнажении.
Далеко не во всех пластах удаётся обнаружить окаменелости, чтобы приурочить пласт к конкретному периоду; часто старшинство слоёв определяется очерёдностью их залегания — стратиграфически (<лат. stratum слой )(стр. 221).
Старшинство слоёв определяется очерёдностью их залегания всегда. С помощью окаменелостей (а также других стратиграфических методов) осуществляется датировка слоёв, т. е. привязка их к некоей абстрактной шкале, которая строится путём корреляции разных разрезов друг с другом. Обязательное условие такой датировки – чтобы она не противоречила «очерёдности залегания» слоёв в данном конкретном разрезе.
Так, породы девонской системы впервые были выделены в графстве Девоншир (учителем Дарвина Сэджвиком, 1839 г.), а пермской — в Пермской губернии (Мурчисоном, 1841 г.). Возрастное соотношение между этими породами учёные определили по останкам. В девонширских отложениях широко распространены рыбы, а в пермских — пресмыкающиеся. Согласно эволюционным представлениям, пермские отложения моложе, поэтому должны располагаться на шкале выше девонских. Эволюционная гипотеза выделяет на развитие рыб в пресмыкающихся 100—120 млн. лет, и это значение берётся за разницу в возрасте пермских и девонских отложений. Так геохронологическая шкала оказалась привязанной к миллиардам лет гипотетической эволюции (стр. 222).
Пермская система по времени своего установления была последней из всех систем фанерозоя, так что с её выделением построение международной стратиграфической шкалы фанерозоя было фактически завершено, по крайней мере, на уровне систем (если не считать выделения ордовикской системы из состава силурийской, произведённого уже в середине XX в.). Таким образом, эта шкала была полностью построена почти за 20 лет до появления книги Ч. Дарвина «Происхождение видов» (первое издание которой увидело свет в 1859 г.), т. е. в те времена, когда идеи о биологической эволюции не были широко распространены в среде естествоиспытателей. Скорее всего, эти идеи не разделялись создателями шкалы и Р. И. Мурчисоном в том числе (интересно, кстати, заметить, что «учитель Дарвина» А. Сэджвик был англиканским священником и до конца своих дней не принимал и яростно критиковал дарвинизм). К тому же Мурчисон ничего не знал о присутствии остатков пресмыкающихся в выделенной им пермской системе (широкую известность эти остатки получили лишь после раскопок В. П. Амалицкого, начатых в 1898 г.). Отсюда можно понять, что возрастное соотношение между девонскими и пермскими отложениями было установлено не «по останкам», а по залеганию этих отложений друг на друге. Мурчисон «поместил» свою пермскую систему над девонской потому, что видел, как она налегает на отложения каменноугольной системы, про которую было известно, что в Западной Европе (в том числе и в Англии) она, в свою очередь, налегает на девонскую систему (Леонов, 1973). Потом, когда на территории бывшей Пермской губернии стали бурить скважины, это положение пермской системы, установленное Мурчисоном, получило подтверждение: на большой глубине под пермскими отложениями были вскрыты отложения, весьма сходные (по органическим остаткам, но опять же, не по рыбам, а по другим группам – главным образом, по спорам высших растений) с девоном графства Девоншир. Абсолютный же возраст (в годах) всех этих отложений как при Мурчисоне, так и долгое время после него был никому не известен. Его начали определять лишь в XX в. после открытия радиоактивности. И только тогда выяснилось, что «хронологическое расстояние» между девоном и пермью составляет около 60 (а вовсе не 100 – 120!) млн. лет. К происхождению же пресмыкающихся эти датировки вообще никакого отношения не имеют, т. к. первые пресмыкающиеся появляются не в пермском периоде, а в начале каменноугольного. Таким образом, на происхождение пресмыкающихся от рыб ушло, опять же, не 100 – 120, а всего лишь около 30 млн. лет и цифра эта получена совсем не из того, что столько лет «выделяет» на происхождение пресмыкающихся «эволюционная гипотеза», а из независимого от эволюции организмов метода – абсолютной датировки, основанной на радиоактивном распаде элементов.
Приведём для наглядности упрощенный пример. Предположим, после сильных дождей с гор сошёл сель, и морской залив оказался погребённым вместе с его обитателями. Через неведомое количество времени на этом месте вырос лес, и в нём поселились звери. Очередная катастрофа погребла и их. Указывают ли два таких пласта на эволюционное развитие жизни в течение миллионов лет? Конечно, нет (стр. 223).
Этот «упрощенный пример» представляет собой очевидную логическую подтасовку: автор задаёт вопрос и сам же даёт на него неверный ответ в надежде, что читатель не возьмёт на себя труд самостоятельно подумать над вопросом, а удовлетворится готовым ответом, который подсовывает ему автор. Правильный ответ на поставленный вопрос зависит от того, какова продолжительность того «неведомого количества времени», которое разделяет образование нижнего и верхнего слоёв. Если, например, морской залив существовал до появления млекопитающих, то в отложениях селя, которые погребли всех его обитателей, не могут встречаться морские млекопитающие (дельфины, тюлени и пр.), подобные зверям (т. е. млекопитающим), населявшим лес. Этот факт (отсутствие млекопитающих в нижем слое и присутствие их в верхнем) определённо указывает на эволюционное развитие жизни в течение тех миллионов лет, которые отделяют нижний слой от верхнего. Кроме того, в морской залив с берега вполне могли заноситься споры и пыльца высших растений. В этом случае на эволюционное развитие растительности будут так же определённо указывать различия в составе спорово-пыльцевых спектров, выделенных из рассматриваемых слоёв.
Учёные-креационисты со времён Кювье рассуждают следующим образом. Если на современной Земле живые организмы покрыть осадками, что мы увидим в недрах? Моллюски, кишечнополостные, рачки окажутся внизу, поскольку живут на дне морей. Выше расположатся рыбы, затем земноводные и пресмыкающиеся: они живут в прибрежных экологических зонах. В самых верхних слоях окажутся млекопитающие и птицы (стр. 223).
Ещё одна логическая подтасовка. Если на современной Земле все живые организмы одновременно покрыть осадками, то в нижнем слое вместе окажутся все организмы, живущие на твёрдом субстрате: донные моллюски, кишечнополостные, ракообразные, земноводные, пресмыкающиеся и млекопитающие, в более высоких слоях никаких организмов не окажется вообще, а рыбы вместе с другими организмами, живущими в толще воды, и птицы, летающие в воздухе, не попадут ни в какие слои. Очевидно, что ничего общего с последовательностью органических остатков, которую демонстрирует палеонтологическая летопись, эта гипотетическая последовательность слоёв иметь не будет. Если же разные области земной поверхности с разными экологическими условиями будут покрываться осадками в разное время, то, очевидно, последовательность захоронённых организмов будет отражать эту временнýю последовательность образования слоев. «Потопная модель» формирования стратисферы предполагает, что в силу постоянного подъёма уровня мирового океана осадконакопление постепенно смещалось из первоначальных областей морского мелководья сначала в прибрежные низменности, а затем в области, всё более возвышенные над уровнем моря. При этом нигде не может наблюдаться последовательность из более чем двух слоёв с разнохарактерной фауной и слои с морской фауной никогда не могут залегать выше, чем слои с фауной сухопутной. Но оба эти требования сплошь и рядом нарушаются в реально наблюдаемых разрезах, чем доказывается неадекватность «потопной модели». На севере Костромской области, например, можно наблюдать, как по мере углубления в стратисферу морские отложения юрского периода сменяются континентальными отложениями триаса и татарского яруса верхней перми, затем идут снова морские отложения казанского яруса, затем – континентальные уфимского и наконец – опять морские нижней перми и карбона. Кювье и его последователи здесь «притянуты за уши», поскольку они (в отличие от Вертьянова) более или менее адекватно представляли себе, как выглядит палеонтологическая летопись, и объясняли её множеством катастроф, после каждой из которых органический мир Земли возникал заново в другом виде (т. е. был представлен другими организмами, хотя и обитавшими в тех же экологических обстановках).
Целых два параграфа (§§ 49 и 50) IV раздела посвящены изложению и «обоснованию» известного креационистского мифа об отсутствии переходных форм между таксонами живых организмов. На самом деле проблема переходных форм была поставлена ещё Дарвином: ей посвящена специальная глава «Происхождения видов» (10-я в 6-ом Лондонском издании). Чёткость разграничения современных таксонов, согласно Дарвину, обусловлена вымиранием форм, которые когда-то связывали эти таксоны друг с другом в силу их общего происхождения. Отсюда следует, что переходные формы должны в изобилии встречаться в ископаемом состоянии. Обсуждая вопрос о том, почему этого не происходит, Дарвин в качестве одной из причин указывал на сравнительную «молодость» палеонтологии как науки. Действительно, датой рождения научной палеонтологии считают обычно 1812 год, когда был опубликован труд Кювье «Исследование ископаемых костей четвероногих», т. е. к моменту 6-го издания «Происхождения видов» (1872 г.) палеонтологии было всего лишь 60 лет – возраст ничтожный по масштабам истории науки. Дарвин, по-видимому, прекрасно понимая это, высказал предположение, что с дальнейшим развитием палеонтологии количество известных переходных форм значительно возрастёт. Это предсказание Дарвина блестяще подтвердилось в последующие полтора века (такие оправдавшиеся предсказания всегда рассматриваются в науке как доказательства истинности соответствующей теории). Между большинством крупных таксонов сейчас известны целые «облака» переходных форм; палеонтологи буквально не знают, куда от них деваться, и реальная проблема заключается не в том, чтобы найти такие формы, а в том, чтобы найти в этих «облаках» траектории, по которым действительно прошла эволюция при переходе от одного таксона к другому.
И к каким только фактологическим и логическим передержкам не прибегает Вертьянов, чтобы «опровергнуть» этот очевидный эмпирический факт! Здесь так же, как в § 48, чуть ли не каждая фраза может считаться ошибочной, и я ограничусь лишь немногими примерами.
Не подтверждена палеонтологическими фактами и гипотеза о происхождении млекопитающих от пресмыкающихся. Современной науке прямые предки млекопитающих животных неизвестны, появление первого млекопитающего остаётся загадкой для учёных (стр. 232).
Зверозубый ящер, предлагаемый в качестве переходного звена от пресмыкающихся к млекопитающим, — пресмыкающееся, у него лишь pазного pазмеpа и назначения зубы, подобно тому как это бывает у млекопитающих (стр. 235).
На самом деле териодонты («зверозубые») – это большая и весьма разнообразная группа рептилий, так что упоминание «зверозубого ящера» в единственном числе есть свидетельство глубокого невежества Ветьянова. Помимо дифференциации зубной системы разных териодонтов роднит с млекопитающими наличие шерсти и вибрисс («усов» на верхней челюсти), верхние обонятельные раковины, расширенные большие полушария головного мозга и много других признаков. В классической работе академика Л. П. Татаринова (1976) детально прослежен процесс эволюции от ранних териодонтов к млекопитающим, причём показано, что он так же проходил через «облако» переходных форм.
Археоптерикс обладал практически всеми признаками птицы (стр. 234).
Тремя строчками ниже сам же Вертьянов вынужден признать, что археоптерикс «имел необычные для современных птиц зубы и хвост с позвонками». Этим утверждением, очевидно, перечеркиваются все предшествующие рассуждения Вертьянова об археоптериксе как о «настоящей» птице, которая не может рассматриваться в качестве переходной формы между птицами и пресмыкающимися.
Подобным образом ошибками изобилуют разделы «Радиоизотопные методы датирования» и «Возраст планеты» параграфа 48 («Геохронологическая шкала»), а также глáвы 12 («Возникновение жизни на Земле») и 13 («Происхождение человека»). Здесь нет возможности разбирать все эти ошибки, да и необходимости такой тоже нет. Сказанного выше, видимо, вполне достаточно для того, чтобы сделать главный вывод: книга Вертьянова не может и не должна использоваться в качестве учебника по биологии для 10 – 11 классов общеобразовательных учреждений. К ней вполне приложимы слова, сказанные палеонтологом и педагогом К. Ю. Еськовым (2000) по поводу другого «учебника креационной науки», написанного священником Тимофеем (1998): «Применять с осторожностью, беречь от детей!».
«А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море» (Мк. IX, 42). Эти слова Спасителя предупреждают нас о колоссальной ответственности, лежащей на создателях школьных учебников. И относятся они не только к Вертьянову, но и ко всем тем, кто так или иначе способствовал изданию и популяризации его книги, – редакторам, корректорам и другим сотрудникам издательства, а также к рецензентам, чьи положительные отзывы приведены на обложке «учебника» (конечно, если таковые рецензенты существуют в действительности, а не придуманы его автором). Страх попасть в число таких «соблазнителей» был моим главным движущим мотивом при написании настоящей рецензии.
Литература
Вертьянов С. Ю. (под ред. Ю. П. Алтухова). Общая биология. Учебник для 10—11 классов общеобразовательных учреждений. 3-е издание, дополненное. М.: Изд-во Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2012, 352 c.
Вертьянов С. Происхождение жизни: факты, гипотезы, доказательства. 2-е издание. Изд-во Свято-Троицкой Сергиевой лавры, 2003, 128 с.
Гоманьков А. В. Битва в пути (креационизм и естествознание) // Христианство и наука. Сборник докладов конференции. М.: Изд-во РУДН, 2008, с. 113 – 145.
Гоманьков А. В. Как описать историю мира? Теория эволюции, креационизм и христианское вероучение // Журнал Московской Патриархии, 2010, № 9, с. 82 – 89.
Еськов К. Ю. «Применять с осторожностью, беречь от детей!» // Человек, 2000, № 1, с. 176 – 183.
Игнатьев И. А. Иоганн Якоб Шойхцер и его «Herbarium diluvianum» (1709) // Lethaea rossica. Российский палеоботанический журнал, 2009, т. 1, с. 1 – 14.
Игнатьев И. А. Ископаемые растения и «теория Потопа» // Lethaea rossica. Российский палеоботанический журнал, 2012, т. 7. с. 35 – 58.
Леонов Г. П. Основы стратиграфии. Т. 1. М.: Изд-во МГУ, 1973, 530 с.
Мейен С. В. Введение в теорию стратиграфии. М.: Наука, 1989, 215 с.
Священник Тимофей. Православное мировоззрение и современное естествознание. Уроки креационной науки в старших классах средней школы. М.: Паломник, 1998, 207 с.
Татаринов Л. П. Морфологическая эволюция териодонтов и общие вопросы филогенетики. М.: Наука, 1976, 258 с.
Шрок Р. Последовательность в свитах слоистых пород (перев. с англ.). М.: Изд-во иностранной литературы, 1950, 564 с.
Уильямсон У. К. Воспоминания йоркширского натуралиста (Продолжение( (перев. с англ.) //Lethaea rossica. Российский палеоботанический журнал, 2020, т. 21, с. 134 - 142.
Примечания
[1] Здесь и далее прямые цитаты из учебника Вертьянова выделены курсивом; комментарии, относящиеся непосредственно к данной цитате, приводятся сразу после указания страницы, с которой взята цитата, и выделены подчёркиванием; полужирным шрифтом выделены смысловые акценты (как мои, так и Вертьянова).
пятница, 13 февраля 2015
Патрологические креационисты очень любят выдавать своё частное мнение за мнение Православной Церкви. Их главный аргумент против христианского эволюционизма заключается в том, что представления об эволюции органического мира Земли якобы противоречат учению Церкви. Вот, например, что пишет священник Константин Буфеев (в настоящее время один из главных лидеров патрологического креационизма) по поводу моей статьи, опубликованной в ЖМП (2010, № 9):
«Автор пытается “примирить” научные эволюционистские представления с традиционным христианским вероучением, но делает он это за счет привнесения новшеств в толкование Священного Писания и Предания Православной Церкви.
Далеко не со всеми утверждениями в статье Гоманькова может согласиться христианин, воспитанный в духе святоотеческого Предания. Ряд положений в его статье представляется не совместимым с догматическим вероучением Православной Церкви».
«Таким образом, приведенное суждение А.В. Гоманькова никак нельзя признать мнением Православной Церкви по данному вопросу».
«А.В. Гоманьков, отдавая предпочтение эволюционистскому подходу и отвергая креационистское святоотеческое учение, вступает в непримиримое противоречие с традицией Православной Церкви». (www.bogoslov.ru/text/1320432.html).
Вероятно, много подобных высказываний можно найти и в недавно вышедшей книге К. Буфеева «Православное учение о Сотворении и теория эволюции», но я, к счастью, эту книгу не читал – Бог миловал.
Или вот цитата из статьи покойного священника Даниила Сысоева «Теистический эволюцонизм как новое арианство»:
«Часто люди думают, что телеологизм (или как его ещё часто называют, “теистический эволюционизм”) представляет из себя нечто целостное, некую альтернативу буквалистскому “ненаучному” пониманию книги Бытия (являющемуся на самом деле традиционным учением Церкви)» (mission-center.com/ru/science/13488-bibl-scient...).
Или вот ещё один "отец-креационист" (протоиерей Алексий Касатиков) пишет по поводу определения возраста Вселенной в 13,7 млрд. лет:
"Почему мы пренебрегали согласным мнением Церкви Христовой, которая есть «свята и непорочна» (Еф. 5, 27), которая есть «столп и утверждение истины» (1Тим. 3, 15)?" (ruskline.ru/analitika/2015/02/12/psaking_evolyu...; выделено автором)
Патрологические креационисты, таким образом, присваивают себе право вещать от лица Церкви: дескать, мы – это Православная Церковь (по определению!), мы – единственные носители Её предания, а тот, кто с нами не согласен, тот, стало быть, еретик.
В связи с этим мне захотелось сохранить ещё одну цитату из С. И. Огарышева (ярого креациониста, декларирующего свою православность, т. е. человека, принадлежащего тому же самому «лагерю», что и процитированные выше священники). Но сначала несколько слов о том, кто такой этот Огарышев и в каком контексте им были написаны слова, которые я цитирую ниже.
Около года тому назад я получил по электронной почте письмо от прежде не знакомого мне человека, который назвался Сергеем Ивановичем Огарышевым из г. Перми. Он представился как православный креационист и предложил мне обсудить с ним на поддерживаемом им сайте некоторые вопросы соотношения эволюционного учения и православия. Я согласился, памятуя о заповедях «Просящему у тебя дай» (Матф. V, 42) и «Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением» (1 Петр. III, 15), и после этого мы с ним почти целый год эти вопросы обсуждали (см. basaltech.org/forum/forum8/topic425/messages/). Кончилось всё, разумеется, тем, что Огарышев стал обвинять меня в богоотступничестве и приверженности сатане. (Всё это можно было, конечно, предсказать с самого начала, но я, как обычно, проявил мягкосердечность и глупую надежду: «А вдруг на этот раз выйдет всё-таки что-нибудь путное?». Ну вот, и поплатился колоссальной тратой времени и нервов).
Но в самом конце нашей дискуссии Огарышев раздобыл где-то аудиозапись доклада, который я делал в прошлом году на семинаре «Наука и вера» в ПСТГУ, и тоже повесил её на упомянутом сайте со следующим комментарием:
«После окончания доклада аудитория горячо благодарила Гоманькова А.В. и хлопала в ладоши. Учитывая, что подобное происходит в большинстве духовных учебных заведений страны, становится совершенно очевидным курс, который взяла Русская Православная Церковь. Происходит геноцид веры и циничное оскорбление чувств верующих, не приемлющих теорию эволюции. Господь сказал: «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской» (Евангелие от Матфея 18: 6). Поэтому ректору ПСТГУ, а также всем церковным иерархам и простым священникам, внушающим окружающему миру откровенный сатанизм, к лицу более будет не крест, который они носят на груди, а предмет, о котором говориться в приведенном стихе Священного Писания. Вы перешли все границы, вы произвели подмену понятий, вы совсем очумели, вы – предатели Христа. Кресты, которые вы носите, не спасут вас от гнева и Суда Божия.»
Сделать выводы из сравнения этой цитаты с приведёнными выше словами К. Буфеева, Д. Сысоева и А. Касатикова я предоставляю читателям в качестве самостоятельного упражнения.
«Автор пытается “примирить” научные эволюционистские представления с традиционным христианским вероучением, но делает он это за счет привнесения новшеств в толкование Священного Писания и Предания Православной Церкви.
Далеко не со всеми утверждениями в статье Гоманькова может согласиться христианин, воспитанный в духе святоотеческого Предания. Ряд положений в его статье представляется не совместимым с догматическим вероучением Православной Церкви».
«Таким образом, приведенное суждение А.В. Гоманькова никак нельзя признать мнением Православной Церкви по данному вопросу».
«А.В. Гоманьков, отдавая предпочтение эволюционистскому подходу и отвергая креационистское святоотеческое учение, вступает в непримиримое противоречие с традицией Православной Церкви». (www.bogoslov.ru/text/1320432.html).
Вероятно, много подобных высказываний можно найти и в недавно вышедшей книге К. Буфеева «Православное учение о Сотворении и теория эволюции», но я, к счастью, эту книгу не читал – Бог миловал.
Или вот цитата из статьи покойного священника Даниила Сысоева «Теистический эволюцонизм как новое арианство»:
«Часто люди думают, что телеологизм (или как его ещё часто называют, “теистический эволюционизм”) представляет из себя нечто целостное, некую альтернативу буквалистскому “ненаучному” пониманию книги Бытия (являющемуся на самом деле традиционным учением Церкви)» (mission-center.com/ru/science/13488-bibl-scient...).
Или вот ещё один "отец-креационист" (протоиерей Алексий Касатиков) пишет по поводу определения возраста Вселенной в 13,7 млрд. лет:
"Почему мы пренебрегали согласным мнением Церкви Христовой, которая есть «свята и непорочна» (Еф. 5, 27), которая есть «столп и утверждение истины» (1Тим. 3, 15)?" (ruskline.ru/analitika/2015/02/12/psaking_evolyu...; выделено автором)
Патрологические креационисты, таким образом, присваивают себе право вещать от лица Церкви: дескать, мы – это Православная Церковь (по определению!), мы – единственные носители Её предания, а тот, кто с нами не согласен, тот, стало быть, еретик.
В связи с этим мне захотелось сохранить ещё одну цитату из С. И. Огарышева (ярого креациониста, декларирующего свою православность, т. е. человека, принадлежащего тому же самому «лагерю», что и процитированные выше священники). Но сначала несколько слов о том, кто такой этот Огарышев и в каком контексте им были написаны слова, которые я цитирую ниже.
Около года тому назад я получил по электронной почте письмо от прежде не знакомого мне человека, который назвался Сергеем Ивановичем Огарышевым из г. Перми. Он представился как православный креационист и предложил мне обсудить с ним на поддерживаемом им сайте некоторые вопросы соотношения эволюционного учения и православия. Я согласился, памятуя о заповедях «Просящему у тебя дай» (Матф. V, 42) и «Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением» (1 Петр. III, 15), и после этого мы с ним почти целый год эти вопросы обсуждали (см. basaltech.org/forum/forum8/topic425/messages/). Кончилось всё, разумеется, тем, что Огарышев стал обвинять меня в богоотступничестве и приверженности сатане. (Всё это можно было, конечно, предсказать с самого начала, но я, как обычно, проявил мягкосердечность и глупую надежду: «А вдруг на этот раз выйдет всё-таки что-нибудь путное?». Ну вот, и поплатился колоссальной тратой времени и нервов).
Но в самом конце нашей дискуссии Огарышев раздобыл где-то аудиозапись доклада, который я делал в прошлом году на семинаре «Наука и вера» в ПСТГУ, и тоже повесил её на упомянутом сайте со следующим комментарием:
«После окончания доклада аудитория горячо благодарила Гоманькова А.В. и хлопала в ладоши. Учитывая, что подобное происходит в большинстве духовных учебных заведений страны, становится совершенно очевидным курс, который взяла Русская Православная Церковь. Происходит геноцид веры и циничное оскорбление чувств верующих, не приемлющих теорию эволюции. Господь сказал: «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской» (Евангелие от Матфея 18: 6). Поэтому ректору ПСТГУ, а также всем церковным иерархам и простым священникам, внушающим окружающему миру откровенный сатанизм, к лицу более будет не крест, который они носят на груди, а предмет, о котором говориться в приведенном стихе Священного Писания. Вы перешли все границы, вы произвели подмену понятий, вы совсем очумели, вы – предатели Христа. Кресты, которые вы носите, не спасут вас от гнева и Суда Божия.»
Сделать выводы из сравнения этой цитаты с приведёнными выше словами К. Буфеева, Д. Сысоева и А. Касатикова я предоставляю читателям в качестве самостоятельного упражнения.
суббота, 26 июля 2014
Недавно прочитал книгу Б. Акунина «Самый страшный злодей и другие сюжеты» (М.: АСТ, 2013, 256 стр.), представляющую собой бумажный вариант блога, который сей автор ведёт в ЖЖ с 2010 года (borisakunin.livejournal.com). В конце книги Акунин приводит результаты нескольких «голосовалок», которые он устраивал в этом блоге. В одной из них мне даже захотелось поучаствовать в том смысле, что я задумался: а как бы я ответил на поставленный вопрос?
Вопрос же был о Том Свете.
«Я составил реестр основных версий посмертного (не)существования, - пишет Акунин.- Если что-то упустил, допишите в комментах.
<…>
То есть вопрос, собственно, звучит так:
Что вероятнее всего ожидает вас (лично вас) после смерти?» (стр. 222 – 223).
Всего в опросе приняло участие 6064 человека. Результаты голосования были следующими:
- Будет встреча с Богом, Который определит участь моей души – 11,1%
- Я снова появлюсь на Земле в каком-то другом теле – 11,8%
- Я окажусь в ином измерении или иной галактике – 6,7%
- Не будет ничего – 34,2%
- Что-то наверняка будет, но предполагать не берусь – 26,5%
- Я проснусь – 3,1%
- Даже думать об этом не желаю – 2,1%
- Другой вариант – 4,5%
При знакомстве с этими результатами мне прежде всего бросилось в глаза, что разные варианты ответа, предлагаемые Акуниным, не исключают друг друга. Например, я могу проснуться и увидеть себя снова на Земле в каком-то другом теле. Или: я окажусь в ином измерении и там встречусь с Богом, Который определит участь моей души. Поэтому я, скорее всего, проголосовал бы за «Другой вариант», а сам этот вариант описал бы в комментах примерно следующим образом.
«После смерти» – понятие растяжимое. Люди на земле умирают на протяжении уже 160 000 лет, и это обстоятельство вселяет в меня уверенность в том, что и после моей смерти не наступит сразу же вечность (бесконечно длящееся настоящее), а будет ещё существовать какое-то время, подобное тому, которое я переживаю сейчас. И моё существование в этом времени будет таким же (ну, или почти таким же) нестабильным, как и моя жизнь до смерти. Поэтому моё посмертное бытие не может быть сведено к одному из тех состояний, которые перечисляет Акунин в качестве вариантов для голосования: оно будет не состоянием, а процессом – сложным и динамичным. Если всё же попытаться как-то предельно кратко этот процесс описать, то наиболее вероятной мне представляется загробная жизнь, подобная той, что была описана К. С. Льюисом в притче «Расторжение брака» (см. запись от 10/X-2008).
Конечно, этот вариант не исключает «Встречи с Богом», «Появления в ином измерении» и «Просыпания», но поскольку и сами эти варианты не исключают друг друга, то я счёл возможным выделить его в особую «версию (не)существования», Акуиниым предположительно упущенную.
Вопрос же был о Том Свете.
«Я составил реестр основных версий посмертного (не)существования, - пишет Акунин.- Если что-то упустил, допишите в комментах.
<…>
То есть вопрос, собственно, звучит так:
Что вероятнее всего ожидает вас (лично вас) после смерти?» (стр. 222 – 223).
Всего в опросе приняло участие 6064 человека. Результаты голосования были следующими:
- Будет встреча с Богом, Который определит участь моей души – 11,1%
- Я снова появлюсь на Земле в каком-то другом теле – 11,8%
- Я окажусь в ином измерении или иной галактике – 6,7%
- Не будет ничего – 34,2%
- Что-то наверняка будет, но предполагать не берусь – 26,5%
- Я проснусь – 3,1%
- Даже думать об этом не желаю – 2,1%
- Другой вариант – 4,5%
При знакомстве с этими результатами мне прежде всего бросилось в глаза, что разные варианты ответа, предлагаемые Акуниным, не исключают друг друга. Например, я могу проснуться и увидеть себя снова на Земле в каком-то другом теле. Или: я окажусь в ином измерении и там встречусь с Богом, Который определит участь моей души. Поэтому я, скорее всего, проголосовал бы за «Другой вариант», а сам этот вариант описал бы в комментах примерно следующим образом.
«После смерти» – понятие растяжимое. Люди на земле умирают на протяжении уже 160 000 лет, и это обстоятельство вселяет в меня уверенность в том, что и после моей смерти не наступит сразу же вечность (бесконечно длящееся настоящее), а будет ещё существовать какое-то время, подобное тому, которое я переживаю сейчас. И моё существование в этом времени будет таким же (ну, или почти таким же) нестабильным, как и моя жизнь до смерти. Поэтому моё посмертное бытие не может быть сведено к одному из тех состояний, которые перечисляет Акунин в качестве вариантов для голосования: оно будет не состоянием, а процессом – сложным и динамичным. Если всё же попытаться как-то предельно кратко этот процесс описать, то наиболее вероятной мне представляется загробная жизнь, подобная той, что была описана К. С. Льюисом в притче «Расторжение брака» (см. запись от 10/X-2008).
Конечно, этот вариант не исключает «Встречи с Богом», «Появления в ином измерении» и «Просыпания», но поскольку и сами эти варианты не исключают друг друга, то я счёл возможным выделить его в особую «версию (не)существования», Акуиниым предположительно упущенную.


